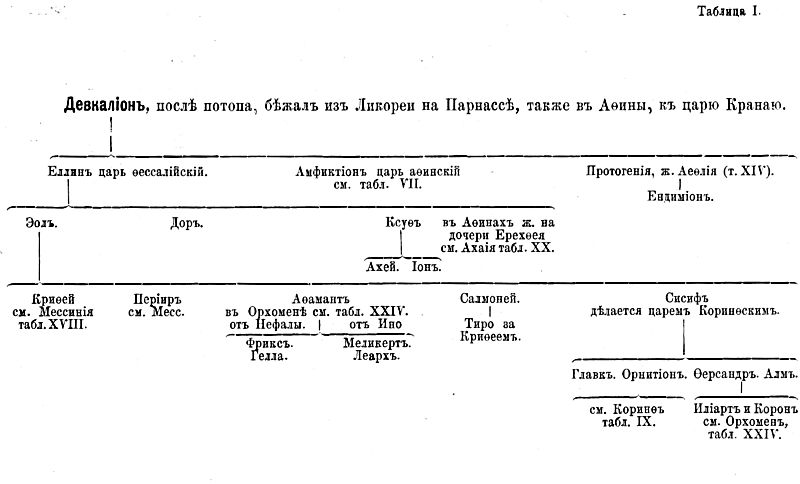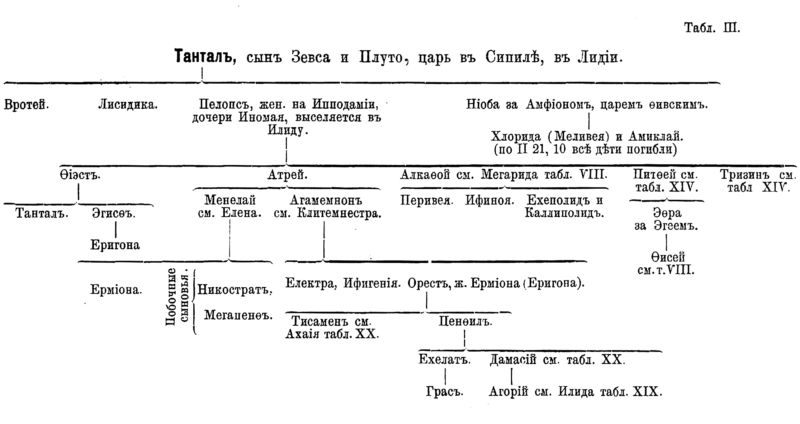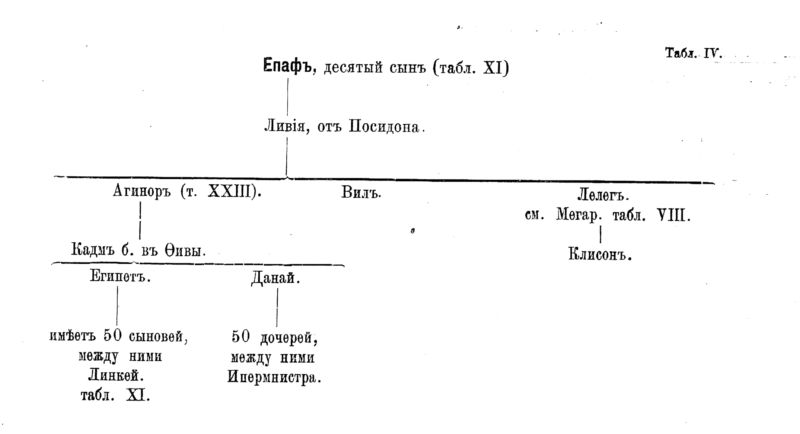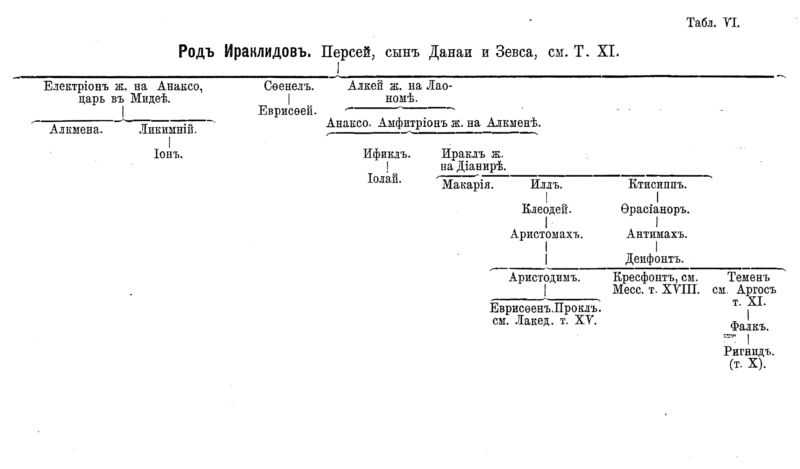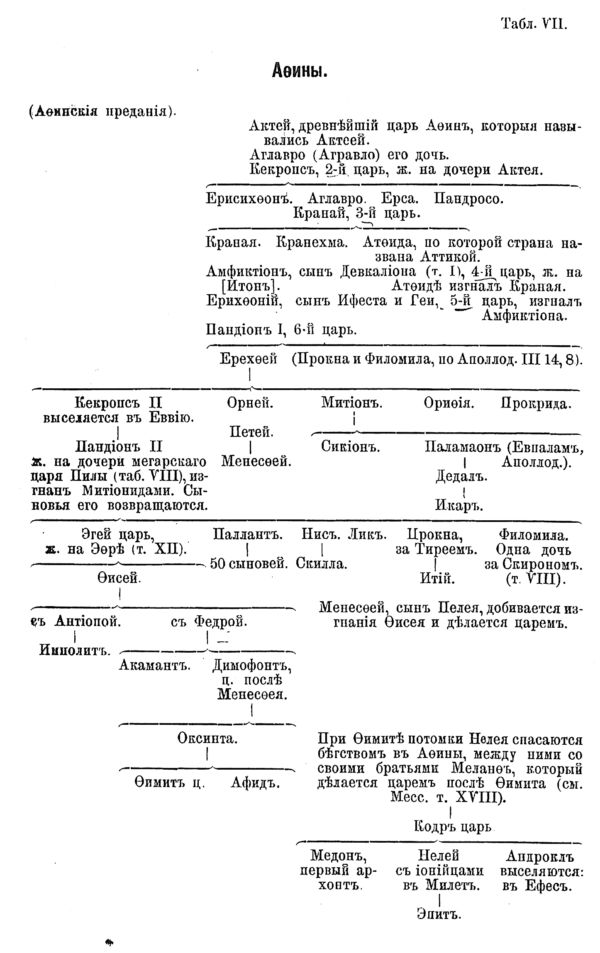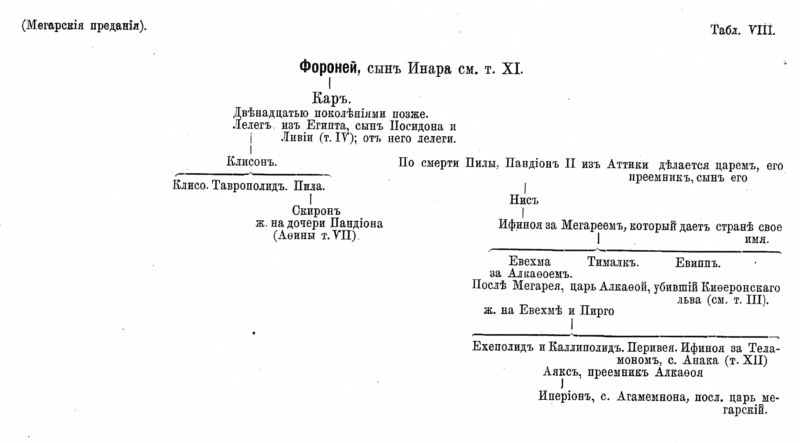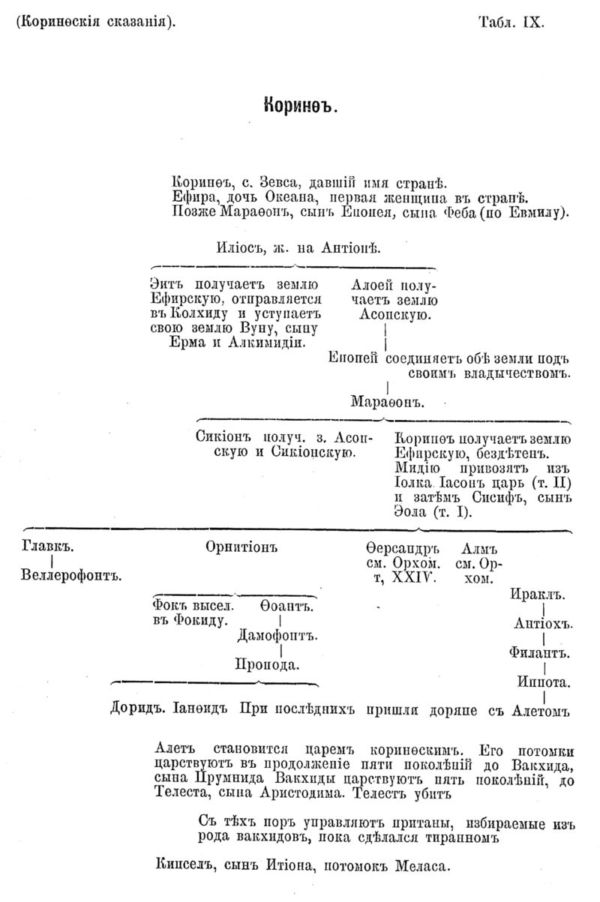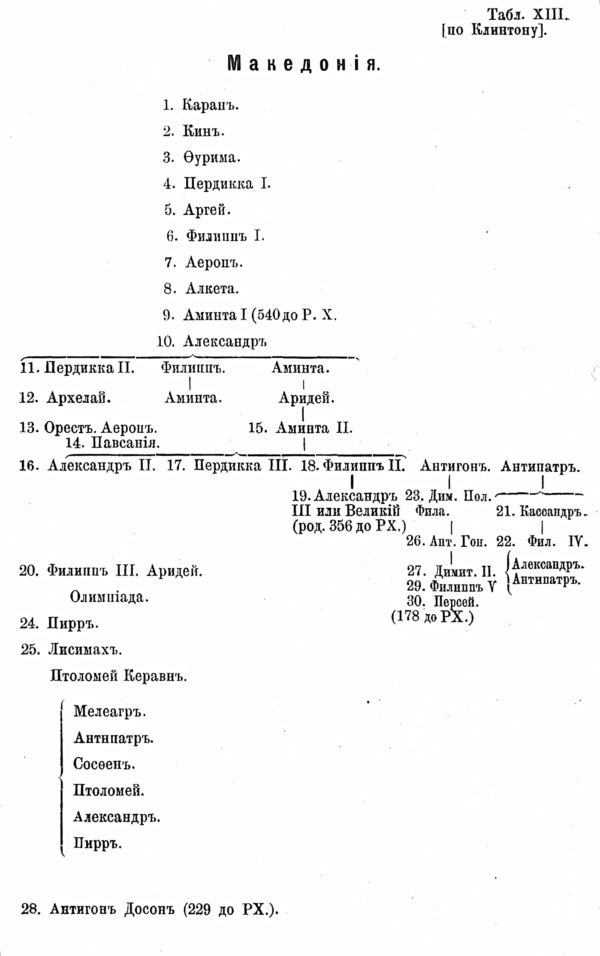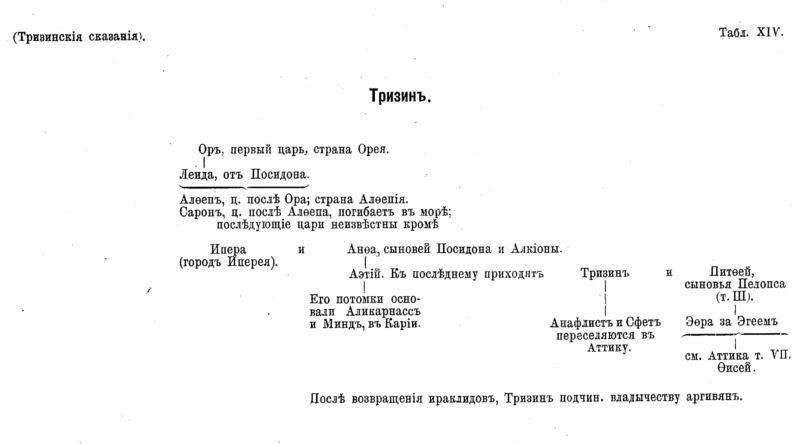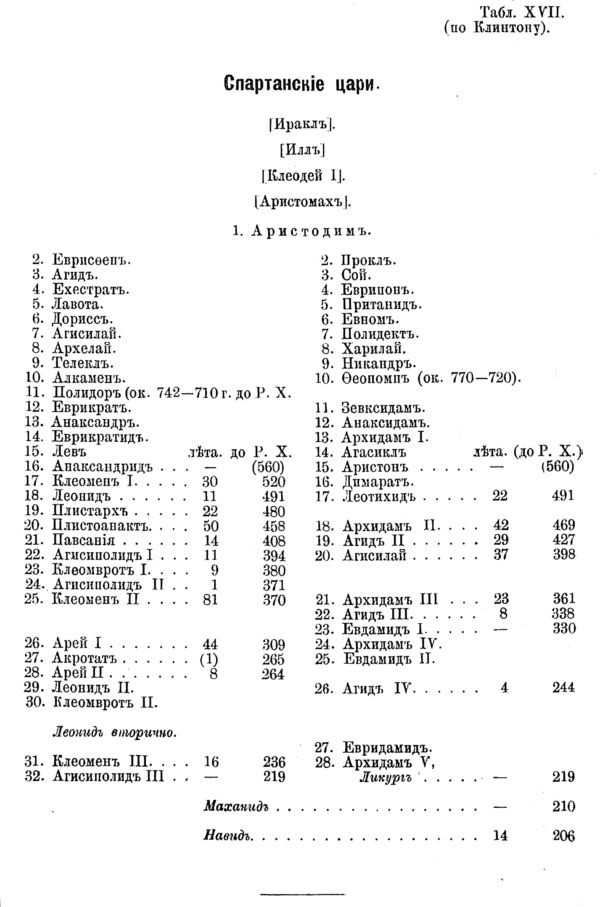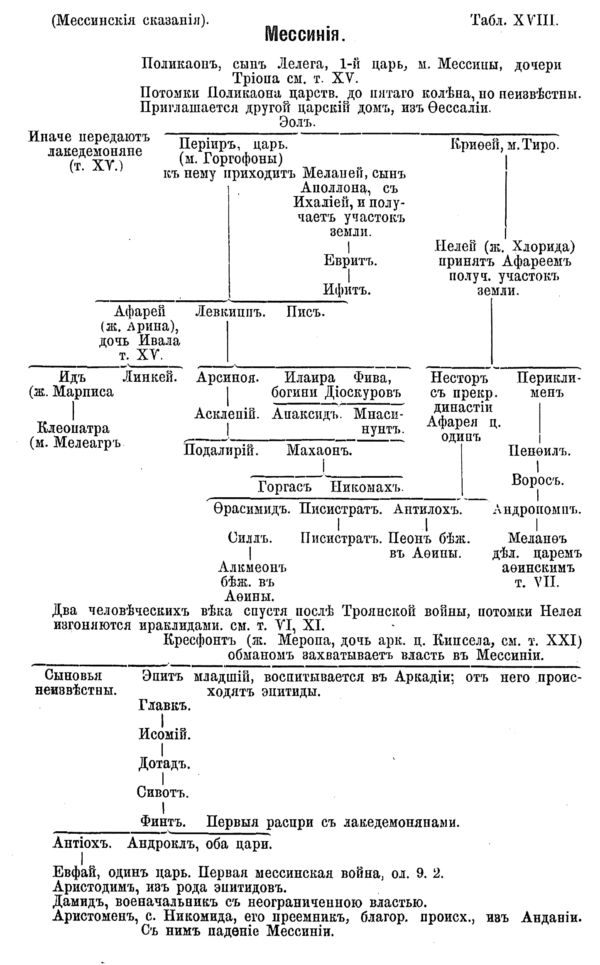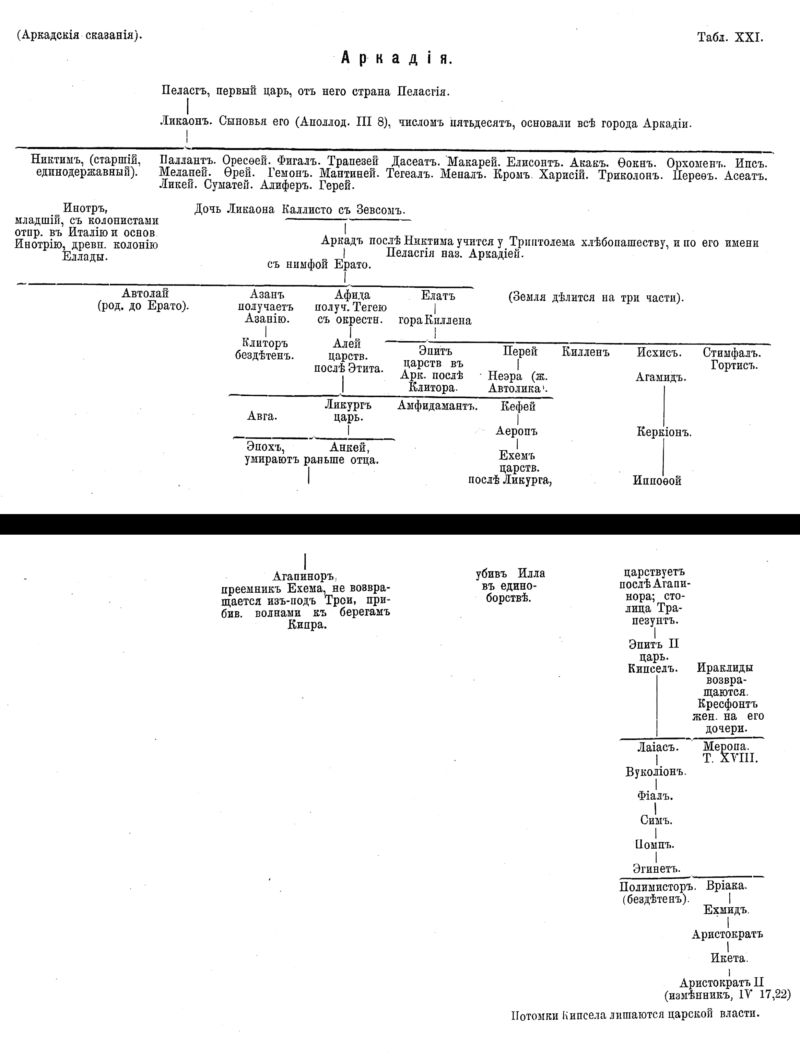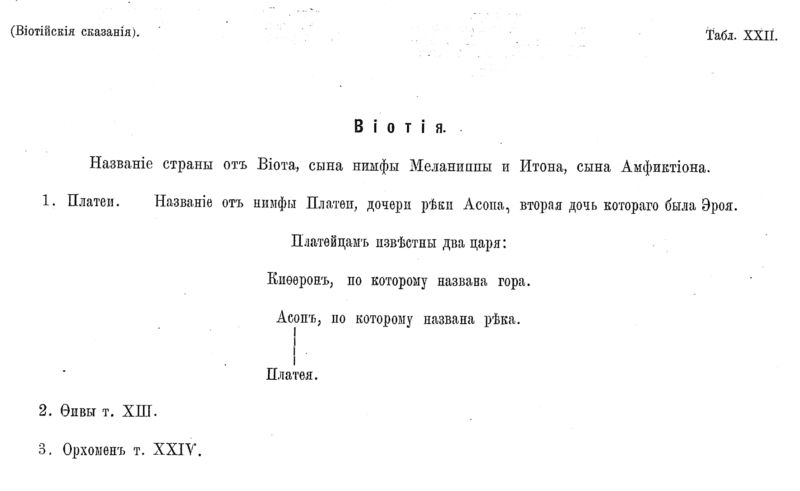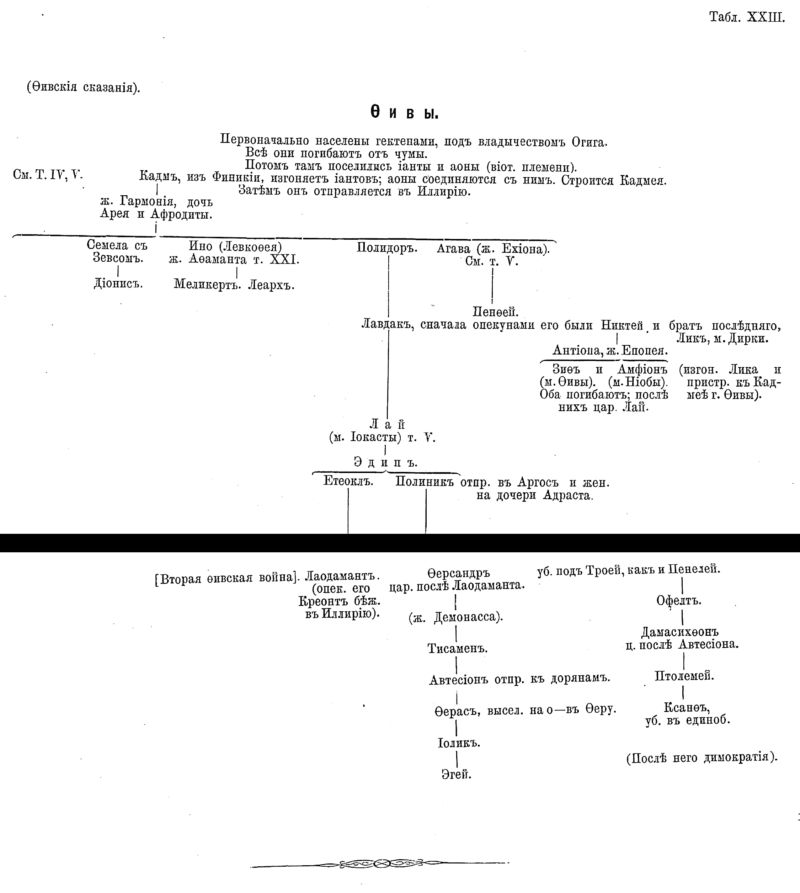Введение
I. Историко-литературное значение Павсании
Проф. И. Шубарта.
1. Обстоятельства жизни Павсании нам неизвестны. За исключением нескольких отрывочных сведений, которые сообщает сам Павсания в своем «Путешествии», до нас не дошло никаких сведений. Филострат [Vit. Soph. II, 13] и за ним Свида упоминают о Павсании из Кесарии, риторе из школы Ирода, и некоторые, действительно, принимали его за автора описания Эллады, но так как оба описывают его, как ритора, не упоминая о «Путешествии», то единство обоих писателей будет всегда сомнительно; и если даже и признать это единство, то едва ли из этого можно извлечь что-либо, кроме достоверности места его рождения.
Что наш Павсания большую часть своей юности провел в Лидии, в окрестностях Синила, может быть даже в Магнезии, ясно видно из его сочинения. Уже в первой книге (I, 24, 8) он рассказывает, что «около Сипила сам три раза видел», как тучи саранчи гибли совершенно разными способами; в другом месте (V, 13, 7) называет местности вокруг Сипила «у нас»; из других мест, напр., V, 27, 5. IX, 18, 3 — 4, видно его обстоятельное знание тамошних окрестностей. Следовательно, Павсания в Лидии получил первое свое образование. Должно быть, уже в юношестве он посещал замечательные города на западном берегу малой Азии и соседних островах; по крайней мере, иногда у него выказывается близкое знакомство с этими местами и их достопримечательностями.
Первое большое путешествие, как кажется, привело нашего автора в Египет. О звучащей статуе Мемнона около египетских Ѳив Павсания говорит в таком роде, который едва ли допускает сомневаться, чтобы он сам не видел Ѳив, и так как это происходит в первой книге (I, 42, 3), то путешествие должно пясть на время до составления первой книги. При этом мог он также посетить храм Аммона, и хотя прямо не высказывает, по по некоторым местам можно заключить об этом с некоторою достоверностью. Точное описание алтарей слоев с их надписями (V, 15, 11), и случайное замечание (IX, 16, 1), что у аммонян гимн Пиндара еще «в его время» можно было разобрать на трех сторонах колонны около одного, дальше означенного, алтаря, указывает почти наверное на очевидца. Если мы теперь позволим себе дальнейшую догадку, то Павсания, при своем путешествии туда или обратно , мог направить свой путь через Палестину и Сирию. Он называет статую Тихи у сирийцев при Оронте (VI, 2, 7); желает пройти молчанием сказание о Дафне, которое было распространено между сирийцами, при р. Оронте (VIII, 23, 3); ему известно великолепие города Селевкии на р. Оронте (VIII, 33, 3); упоминает о древнейшем лавровом дереве у сирийцев (VIII, 23, 5); описывает течение Оронта и работы для его судоходности (VIII, 29, 3); далее, в стране евреев приводит источник с красной водой при Иоппе вместе с относящимся к нему сказанием (IV, 35, 9), и гробницу Силена в той же стране евреев (VI, 24, 8); ознакомился со многими замечательными гробницами, особенно с гробницей Елены в Иерусалиме, устройство которой описывает с некоторой подробностью (VIII, 16, 5); видел Иордан, как он протекает через озеро Тиверия и впадает в Мертвое море, на удивительных качествах которого он останавливается (V, 7, 4); выказывает даже некоторое знание египетского и финикийского языков (IX, 12, 2). И все эти подробности сообщаются бегло, как это всегда охотно сообщается путешественниками.
Потом мы всего раньше встречаем нашего путешественника в Аѳинах. Некоторое время он жил в городе, прошел большую часть Аттики, и, вероятно, тотчас обработал свои за,метки из книг и из путешествия, которое, должно быть, тотчас и издал. После этой первой ниоательской попытки он отправился в Италию, при чем мог коснуться Сицилии и Сардинии. Для Рима мы должны будем принять довольно продолжительное пребывание: о тамошних достопримечательностях он неоднократно упоминает, напр. V, 12, 6. VIII, 17, 4. VIII, 46, 4, 5. IX, 21, 1. Отсюда он посетил Арицию, Капую, Дикеархию (Путеолы) и наверное еще другие области Италии (II, 27, 4. IV, 35, 12. V, 12, 8. VIII, 7, 3). То, что он рассказывает про Сицилию, кажется, заимствовано из книг, но заметки про Сардинию могли произойти из личного осмотра.
После этого путешествия, о продолжительности которого можно только догадываться, возвратился он в Грецию; объездил по всем направлениям Пелопоннес и греческий континент до Фессалии, видел теплые ключи в Фермопилах и был в Парисе, IV, 35, 9. IX, 30,9. Обо всех этих путешествиях, если и в другом порядке, с достоверностью можно заключить из самой книги; посещения других, им упомянутых, стран, можно предполагать, но не удостоверять. Так, например, не невероятно, что в Амѳунте он. сам видел так называемые «драгоценности» Ерифилы (IX, 41, 3); но что он рассказывает о бальзамовых деревьях в Аравии и охраняющих их змеях (IX, 2 3, 3, 4.), это он мог знать по слухам или почерпнуть из какой нибудь книги, об удивительных вещах».
Исключая эти путевые заметки, мы ничего из жизни Павсании не знаем, даже не находим легкого намека на то, в каком качестве, с кикою целью делал он эти весьма замечательные, особенно для того времени, путешествия, по делам ли, или как купец, для своего ли удовольствия, или как набожный странник.
Время жизни нашего периегета, по некоторым его данным, указывается ясно. Из указания в VIII, 9,7, можно предположить, что его пребывание в Риме падает на время, следующее за смертью Антиноя. В I, 5, 5 Павсания рассказывает, что одна из аттических фил «в его время» названа именем императора Адриана; в VIII, 4 3 рассказывает про деяния Антонина I (Пия), а в конце главы восхваляет Антонина II (Философа) уже как императора. Книгу об Илиде написал он в 217 г. по восстановлении Коринѳа Юлием Кесарем (V, 1, 2), т. е. в 927 г. после основания Рима, или в 174 г. по Р. Хр., в 16-том году царствования Антонина Философа. Самое позднее время указывается в X, 34, 5, где они рассказывает, что костовоки «в его время» вторглись в Грецию и проникли до Елатии, что здесь в сражении с костовоками пал Мнисивул, и что этот Мнисивул в 235 олимпиаду (1 61 г. по Р. Хр.) победил в стадии. Поэтому, время жизни Павсании достаточно верно обозначено, хотя для его рождения, как и для его смерти, точных цифр нельзя указать.
2. Относительно цели, большей части путешествий, мы находимся в совершенной неизвестности, однако но некоторым указаниям мы можем вывести заключение, что Павсания путешествовал по Греции: методически, как для собственного образования, так и с предвзятою целью — издать описание страны. От древнего писателя никто не будет ожидать художественного путешествия, с описанием случаев и. приключений собственной жизни. Также мало найдется в нем описаний природы, как и трактирных сцен. Наш автор обратил все свое внимание на памятники культа и художеств. Неутомимо исследует он всякие религиозные обычаи, старательно собирает живущие в народе сказания. Это предшественник и в некотором роде, прототип наших современных собирателей преданий. Его исторические вступления и пояснения образуют самостоятельное целое для употребительнейшего путеводителя, какого только можно было желать в это время. Что свою книгу он составил по в дороге, это само собой понятно: весь состав её достаточно доказывает, что она произошла при полном спокойствии, по составленным на месте заметкам, после предшествовавшего изучения как политической, так и художественной истории, путем очень распространенной в это время начитанности. Даже план сочинения не дозволял ему следовать тем путем, которым он еам шел; возможно даже, что в его книге находятся пути, на которые он совсем не вступал, но которые он должен был дополнить из книг или иных источников, чтобы достигнуть известных пунктов. Этим объясняется некоторая путаница и скачки в путевых заметках, предварительное составление которых может быть с достоверностью доказано, точно также как эти же скачки обратно доказывают, что составление книги подвигалось отнюдь не вместе с путешествием.
Что автор с самого начала составил себе известный план — издать описание путешествия по всей Греции, доказательством могут служить следующие места. Уже I, 26, 4 он говорит: «Однако я должен продолжать свою историю, так как хочу одинаково говорить о всех греческих достопримечательностях». Далее, после того как в I, 3, 6 уже сообщено было несколько заметок о вторжении галатов в Грецию, в X, 19, 5 он выражается следующим образом: «о вторжении галатов в Грецию я уже коротко упомянул; подробнее я хотел описать касающиеся их происшествия в отделе о Дельфах, потому что там греки совершили наибольшие деяния против варваров.» В общем, стало быть, план был установлен, но не обработка подробностей; напротив, с продолжением работы опа получила очень важные изменения. Как неопытный новичок, начал он свое сочинение, и закончил с созревшим взглядом. С пашей точки зрения, мы можем сожалеть, что он начал прямо с Аттики и тотчас издал; именно для Аѳин нужна, была более зрелая работа, которая и для нас была бы особенно желательна. Но что между составлением первой и следующих книг лежит более долгое время, и вследствие этого замечается высшее умственное образование и большая умелость выражения, будет видно, из следующих данных.
Несколько раз Павсания находил себя вынужденным исправлять прежние данные или вносить дополнения, и всегда они относятся к первой книге. Важнейшее место для нашего вопроса есть VII, 20, 6, где автор упоминает об Одеоне Ирода в Аѳинах, и при этом случае замечает, что «в своем описании Аттики он об этом здании не говорил, так как эта часть сочинения была уже окончена раньше, чем Ирод начал свою постройку».
По вычислению Вестермана [Pauly’s Real-Encyclopaedie, Not. zu Keichardts Aufsatz. 3. 1258], имея в виду ссылку на V, 1, 2, между первой книгой и пятой лежит время в 15 лет; значит, до составления седьмой книги требуется еще больше. Далее принадлежит сюда поправка о времени попытки возвращения гераклидов I, 41,2 (VIII, 5, 1). Точно также где он молча исправляет прежние данные, эти исправления касаются первой книги. Сюда относится то, что он II. 29, 4 говорит о роде Аякса по отношению к I, 42, 4; далее, когда он VII, 23, 5 упоминает о совершенно закрытой в Эгионе картине Илифии, хотя в I, 18, 5 и сказал, что только у аѳинян Илифия совершенно закрыта. Из этих мест с достоверностью вытекает, что первая книга не только была составлена, но и издана задолго пред остальными, потому что если бы Павсания имел ее еще в руках, без сомнения сделал бы поправки в рукописи.
С этим данным присоединяются еще несколько других достойных внимания пунктов, и особенно важно здесь место в VIII, 8, 3. «Эти сказания греков, говорится там, приписывал я, при начинании моего сочинения, большею частью простоте; когда же я дошел до описания Аркадии, то составил себе об этом следующее мнение: те, которые у греков считались мудрецами, сначала распространяли свое учение не прямо, по в картинах... В вещах, касающихся божественного, я, стало быть, буду держаться предания.» Такая существенная перемена в религиозных воззрениях есть дело не дней и не недель, но годов. Что причинило этот переход от легкомысленного неверия к такому серьезному верованию, не может быть доказано даже как предположение. Можно было бы приписать это посвящению в таинства, — ибо Павсания был посвящен, — но, кажется, что он был принят в таинства уже по составлении первой книги.
Чтобы покончить с этим вопросом, и доказать, насколько это возможно, что долго потраченное на составление книги время распространено било не одинаково на все сочинение, но что именно между изданием первой и остальных книг падает довольно значительное время, нужно обратить внимание еще на один пункт, о котором будет упомянуто еще ниже в другом отношении, это — слог Павсании. О неумелом слоге Павсании говорилось уже слишком много, и этого никто не станет отрицать. Действительно, если начать чтение с первой книги, можно почти ужаснуться от этого языка ухабистого, отрывочного, неровного, от безосновательности при выборе того, что нужно было описать, от несоблюдения меры и порядка в приводимых эпизодах. Всякому будет неприятно, когда важнейшие вещи обходятся молчанием, или после нескольких слов оставляются, когда об истории Аттики, о зданиях и художественных произведениях получаются только самые бедные указания, между тем как по поводу какого-нибудь имени рассказываются длинные истории, совершенно не касающиеся Аѳин, доказывающие разве только молодую ученость автора. Решительно нужно сказать, что в этой книге везде выказывается новичок, и что мы не окажем ему большой несправедливости, если признаем эту книгу трудом начинающего писателя. В неудовольствии, часто распространяли это мнение на все сочинение, но при беспристрастном чтении, уже во второй книге встречается совершенно другой дух. Язык, изображение, метода, суждения — все сразу замечательно изменяется к лучшему. Оказывается более зрелое суждение; умелость изображений значительно выигрывает; выбор того, что изложить и что пропустить идет на ряду с достойной признательности самоуверенностью, и, что особенно важно, неуместные, хотя сами по себе полезные, эпизоды вдруг исчезают. Обратим при этом внимание на наивное замечание в IV, 24, В: «что рассказывается о так называемых Диагоридах я пропустил... чтобы не думали, что я пишу вещи, не относящиеся к делу». Надо полагать, что позже он усвоил относительно эпизодов верное суждение, или же, но издании первой книга, другие обратили его внимание на чрезмерное употребление эпизодов.
3. Что касается языка и изложения, то они часто были предметом строгого порицания, частью справедливо, частью несправедливо. Даже кроме указанной разницы между первой и остальными книгами, нельзя отрицать, что его язык часто страдает известной неясностью, скудостью, однообразием, что нередко не видно приятной округленности периодов, известного разнообразия в оборотах, верного выбора выражений. Иногда затрудняет понимание резкий, оборванный стиль. Далее, нужно признать — в первой книге особенно — что он часто останавливается на посторонних вещах, между тем как главное пропускает молча, или довольствуется недостаточным обозначением; например, во многих случаях о статуях ничего не говорит, как только, что такой то с бородой, а на все остальное — материал, положение, работу ни словом не указывает. Вообще можно сказать, что относительно формы и языка описание Павсании не легко может заявить притязание на название классической книги, и что содержание её часто слишком скудно. Однако не разукрашивая и не отрицая недостатков, все-таки нужно признать, что часть делаемых Павсании упреков преувеличена, другая часть несправедлива. Павсания хотел издать путеводитель по городам Греции, и сделал это по хорошему плану, и в общем верно выполнил. Для путешествия короткий, сухой язык был совершенно уместен; если бы он при этом распространился в цветистых или даже сентиментальных речах, то мы имели бы право над ним смеяться. Достопримечательности городов, религиозные обычаи, различные сказания он рассказывает просто и без всяких прикрас. Но где требовал предмет, Павсания мог и воодушевляться, и в таких случаях мы не можем отрицать более высокого слога. Не говорит ли, напр., при мессинских войнах вместе с ним и его сердце? Разве не чувствуется при изображении ахейско-римских замешательств его внутреннее негодование? Не заметно ли, с какою любовно он обходится с Филопименом? Не описано ли вторжение галатов совсем другим языком, чем какой-нибудь путь, или даже Олимпийский Зевс? Пусть при этом кое что будет отнесено на счет его источников; все таки нужно отдать справедливость, что Павсания совершенно верно отличал, что годилось для одного места и что для другого.
Совершенно верно, что данные Павсании для нас во многих местах недостаточны, что он нас иногда при важнейших вещах оставляет, также как иногда возбуждает надежду, не исполняя ее. В отдельных случаях, может быть, и Павсания виноват. Но не следует никогда забывать, что публика, для которой он писал, стояла совсем на другой ступени, чем мы; что он мог многое предполагать как всем известное, где для нас объяснение было бы желательно или необходимо. Не нужно также забывать, что автор хотел издать книгу собственно не для чтения в комнате, но проводника в путешествии. При виде художественных и т. п. произведений многое было ясно, что должно остаться темным для того, кому недостает этого непосредственного созерцания; при чем конечно нельзя отрицать, что этой цели Павсания не всегда придерживался. Однако можно поставить вопрос: существует ли какой-нибудь новейший путеводитель, которому нельзя было бы сделать тот же упрек? Что касается молчания Павсании относительно некоторых религиозных учреждений и обычаев, то, действительно, оно часто поражает, и возбуждает простительное желание, чтобы Павсания был менее воздержен. Это, однако, тоже мнение с нашей точки зрения.
Так как мистерии обязывают к молчанию, то некоторых вещей он и не смел сообщать непосвященным; если бы он действительно сделал, то для нас это бы но бы конечно приятно, но едва ли бы мы оставили ему упрек за вероломство. С этой точки зрения должно уже казаться чем-то выдающимся, когда он делает сообщения из таинственных сказаний, как напр. II, 29, 8. II, 38, 2. А относительно того сна [I, 14, 3,], который удержал его высказаться об Елевсинионе в Аѳинах, вероятно, было особенное обстоятельство; точно также если IV, 33, 5 он говорит: «о тайном служении великих богинь в Карнасийской роще я должен хранить молчание, но что глиняная урна и останки Еврита там хранятся, сообщить об этом сон не запрещает», то, следовательно, обязанность соблюдать тайну он здесь основывает на сне, а не на данной клятве.
Если поэтому многое нам но сказано или только намечено, что мы охотно узнали бы от него подробнее, то, напротив, мы находим и много такого, на что мы не рассчитывали, хотя, конечно, это недостаточный замен. Было уже замечено, что девять последних книг свободны от растянутых вставок; напротив того, замечается, особенно в последних книгах, увеличивающаяся страсть вплетать достопримечательности местной природы; с детской радостью он пользуется каждым поводом рассказывать о замечательных животных и растениях. Хотя эти небольшие отклонения и не принадлежат необходимо к ходу рассказа, все-таки нужно сознаться, что они большею частью небезынтересны, и почти нигде особенно не прерывают нити рассказа. Такие рассказы очень правятся детскому уму, и из этого легко объясняется, как именно при таких случаях переписчики охотно могли прибавлять свои замечания, которые потом, к ущербу автора, нашли место даже в тексте. К этим вставкам я причисляю места V, 1,22 и X, 29, 2. Доказательства для такого рода эпизодов можно найти: V, 12, 1-3. VIII, 17, 3, 4. IX, 21, 1-6. IX, 22, 4. IX, 28. IX, 31, 1. X, 4, 8, 9. X, 13, 1-3. X, 17, 12. X, 36, 1, 2, 7.
4. Из сказанного достаточно выясняется, что дену и значение «Описания» нужно искать не в форме изложения. Посмотрим теперь, какое принадлежит ему место по содержанию. И здесь справедливость требует, чтобы желаемое нами мерить не масштабом нашего суждения, а смотреть только на данное, соответствует ли оно плану книги, требованиям действительности, принялся ли автор за дело везде с добросовестной осторожностью. В общем, вероятно, не нужно будет опасаться противоречия, так как нет древнего писателя, которому столько, как Павсании, мы были бы обязаны знанием страны, религиозной жизни и истории искусства. Даже можно не задумываясь сказать, что без него целые страны Греции были бы для нас совершенно неизвестны, что некоторые религиозные обычаи и формы верования нам переданы только им, что без него история греческого искусства для нас едва ли и существовала бы. В этом заключается главнейшее значение Павсании, которого никогда нельзя достаточно оценить. В сравнении с этим, исторические сообщения занимают второстепенную важность, хотя и это заметки, достойные признательности, так как некоторые сведения были бы для нас вовсе неизвестны, а некоторые составляют приятные подтверждения и дополнения к фактам, известным от других писателей[1].
Перейдем к частностям. Во первых, что касается до путевого отдела книги, то есть, до указания путей и топографического описания городов, то все согласны признать точность и заботливость автора, и лучшей похвалой книги может служить то обстоятельство, что· и теперь еще путешественники по Греции руководятся ею и почти везде могут найтись. Большею частью, Павсания говорит здесь как очевидец; заметка свои он собирал и помечал внимательно и с тщательным исследованием. Составление и разработка показывают везде верный план и хороший выбор. Направления путей следуют по естественному порядку, хотя не везде согласно с самим путешествием. Так он, например, в Аркадии каждый важный пункт берет срединной точкой, из которой ведет и исследует дорогу до самой границы городской земли, затем возвращается и описывает таким же образом другую дорогу, и так далее до последней, со всеми их подразделениями, так что Аркадия как бы состоит из множества кругов, в которых дороги везде идут радиусами от центра к окружности. В таком порядке автор конечно не путешествовал, но для указания путей такой порядок как нельзя, более целесообразен. Что здесь примерно сказано об отдельных маленьких государствах Аркадии, имеет также значение для больших частей страны; каждая описывается отдельно от других. Правда, чрез это легко могли происходить недоразумения, но это вполне извинительно, особенно если принять в уважение, что перед глазами автора вряд ли лежали специальные карты. Можно почти удивиться, что мы с достоверностью можем указать только один случай в этом роде. Павсания описал Мессинию до Неды, пограничной реки с Илидой. Согласно раз взятому плану при описании Илиды, он должен был там же продолжать путь, где прервал его в Мессинии, и стало быть при Неде вступить в Илиду; в действительности же он пришел в Олимпию из Аркадии, должно быть из Гереи, и отсюда путешествовал по лежащим вокруг странам, и по этому плану составлял заметки; но при разработке нужные перестановки и указания пропустил. Ср. V, 7, 1; VI, 21, 3, к чему тоже можно присоединить V, 6, 3.
Также описание городов следует в естественном топографическом порядке, разве где он сам указывает на противное. Так, он считал целесообразным, и конечно справедливо, при упоминании о большом алтаре в Олимпии, привести и все остальные алтари в Олимпии, не в топографическом порядке, но в том в каком илийцы имели обыкновение приносить свои жертвы в большие празднества. И это уклонение от обыкновенного порядка он решительно объясняет не только V, 14,4, но для избежания недоразумений повторяет еще V, 14, 10. Такая точность дает конечно право на предположение, что он не позволял себе уклонения от естественного порядка, и что, например, при перечислении статуй атлетов в Алтисе мы должны принять, что он следовал тому порядку, в каком стояли статуи (Cp. Zeitschr. für Alterthums-Wissensch. 1850. S. 130 fg.).
Другое, отчасти неясное, обстоятельство составляют такие места, где, при упоминании, напр., храма, он говорит, что другой лежит и в другом месте: напр., II, 10, 1. III, 21, 8. III, 22, 13. III, 26, 4. Если такое уклонение вообще бросается в глаза, то I, 25,1 настолько поразительно, что слова; «но статуя Перикла стоит в другом месте (и I, 28,2) едва ли можно считать за что иное, как за объяснительное примечание на полях, не принадлежащее к тексту. Во всяком случае даже из таких мест мы можем составить правильное перечисление в топографическом порядке.
5. Переходим затем к исторической части книги, встречающейся в виде вступлений к разным отделам при случайных анекдотических вставках. Критика здесь осудила его особенно строго. и неумеренные по своей резкости приговоры чередуются с отсутствием сколько-нибудь справедливой оценки. Так как Павсания не был свидетелем и не пережил сам всего, что рассказывает, но почерпает свои данные из различных источников, то для справедливой оценки необходимо, во-первых, исследовать, какими и как он воспользовался источниками? Поставить такие вопросы, конечно, просто, удовлетворительно же на них ответить весьма и весьма трудно, так как Павсания частью вовсе не называет своих источников, частью же самые ссылки на них были бы для нас в большинстве случаев бесполезны, тик как источники давно утеряны. С самого начала бросается в глаза, что перед нами не беглый, на скорую руку сколоченный труд, но построенная на глубокой научной подготовке работа; везде сказывается действительно достойная удивления для того времени начитанность, не только в отношении книг, распространенных, знание которых могло считаться необходимым условием тогдашнего образования, и ссылки на которые потому сравнительно редки, но и в отношении многих редких, специальных сочинений, с названиями которых мы только благодаря ему и знакомимся. Перечень их и приведенных из них мест занимает у Siebelis (V. V. p. 183) одиннадцать столбцев![2] При некоторых, особенно, ценных но редкости, книгах, он положительно утверждает, что сам читал их, между тем как при других, как Игисин и Херсий (IX, 29, 2.IX, 38, 10), откровенно сознается, что сам не видел, так как уже в его время они были утеряны, а цитаты взяты из книги Калиппа, напр. в статьях X, 1 2, 1. Такая добросовестность должна, конечно, предубедить в его пользу. Что он не только читал, но и читал со вниманием, извлекая все нужное и полезное для своей работы, ясно каждому, если читать книгу вполне беспристрастно, и эту заслугу надо ему оставить, даже если наши исследования не приводят к одинаковым с ним результатам. Примером, где он указывает на источники рассказа, может служить полумифическая часть мессинской книги и подвиги Аристомена (IV, 6, 1 — 6). Здесь он, сопоставляя эпический рассказ Риана с прозаическим Мирона, выставляет причины, почему отдает предпочтение первому. Причины эти довольно вески, особенно в виду того, что· он сам признает изложение Риана эпическим, стало быть, по строго· правдивым.
В вышеприведенном случае, когда к услугам Павсании были источниками поэтический эпос и романическая проза, мы не имели возможности проверить его; тем интереснее разобрать другой случай, где он мог воспользоваться действительно исторической книгой, и мы, хотя частью, способны проследить его труд. Павсания всегда охотно занимался судьбами Ахейских народов. Уже при изложении истории ионийской колонизации малой Азии, нельзя не обратить внимания на пользование важными источниками, благодаря которым он мог оставить нам массу веских заметок. Для доказательства его уменья пользоваться источниками, приведем его рассказы из времен Ахейского союза, находящиеся преимущественно в седьмой книге, а частью разбросанные и по другим отделам. Некоторые описания замечательно подробны; даже такие эпизоды, как напр., Оропское дело, в сущности совершенно ничтожные, рассказаны, очевидно, без всякой предвзятой цели с мелочным педантизмом в деталях. Точность некоторых показаний в роде того, что Муммий прибыл к войску до рассвета, что ахейцы напали вовремя первой ночной смены стражи, наконец самый бесстрастный тон изложения но дают ни малейшего повода сомневаться, что Павсания имел под руками обильные подробностями источники и в совершенстве умел ими пользоваться согласно намеченной цели. Относительно записок Арата, можно утверждать это почти с достоверностью; сравнивая жизнеописание Арата в биографиях Плутарха с заметками о том же Павсании, приходим к весьма и весьма близким к истине выводам. Но и собственноручные записки Арата отнюдь не были единственным источником Павсании; он очень часто, напр., в VIII, 30, 8 и 9, упоминает о Поливии, с выражением притом глубочайшего к нему уважения. Помимо всяких других выдержек, эта одна дает уже нам право заключить, что капитальное сочинение Полиция об Ахейском союзе и его отношениях к Риму дало обильные материалы для книги Павсании; иногда даже кажется, будто от нее веет духом Поливия.
Мы уже сказали, что упомянутое в VIII 30, 8, 9 дает нам право сделать весьма вероятное заключение; сделаем еще шаг вперед по тому-же пути. В VIII, 49 и след. встречаем довольно подробный очерк жизни Филопимена; стоит только сравнить его же Плутарха жизнеописание, чтобы убедиться в тождественности источников. В самом деле: последовательность изложения, подбор фактов те же самые, только Павсания сильно сокращает, а Плутарх широко распространяется в своих извлечениях. Едва ли может быть разногласие относительно того, что таким общим источником была именно Поливиевская биография Филопимена, а потому легко проверить, в какой мере добросовестно пользовался ею Павсания. Но как выбор источника, так и пользование им рекомендуют Павсанию с весьма хорошей стороны; а если судить по одному примеру о всем способе пользования, то надо даже думать, что он добросовестнее относился к делу, чем Плутарх, который позволяет себе отступления, между тем как Павсавил остается верен оригиналу. Так, Павсания (VIII, 49,3) говорит: «лицом он был очень некрасив»; Плутарх же (Филопимен, II) напротив: «лицом он был не дурен, как думают иные, так как я сам видел статую его в Делфах». Нет сомнения, что Павсания остается здесь при Поливии, который также, очевидно, подразумевается между этими «некоторыми» Плутарха, статуи ради вздумавшего оспаривать показания излюбленного своего источника, притом вряд ли справедливо. — Положим, что Павсания и сам мастер делать заключения о чьей-нибудь красоте во картине или статуе; смотри, напр., рассуждение его о красоте Коринны (IX.22, 3); новое же заключения его условны. Статуи Филопимена в Делфах он не видел, но крайней мере, о ней не упоминает; тегейской же (VIII, 49, 1) в его время больше не существовало, оставался только цоколь да надпись. По даже если бы он видел обе статуи, и на обеих Филопимен был бы изображен красавцем, не думаю, чтобы он придал им более весу, чем свидетельству Поливии: не даром же он знал в лицо друга отца его, Ликорта.
Так как мы не поставили себе задачей перебрать все источники Павсаниевых книг и исследовать, как он ими пользовался, а хотели только поставить на вид, что он брал не все, что попало, а тем, что брал, умел пользоваться, то я затрону еще один отдел, где Павсания рассказывает о деяниях Пирра. И здесь он, также как Плутарх, главным образом руководствовался Иеронимом Кардийским, отнюдь однако не рабски его повторяя; он хорошо понял его пристрастный тон и даже старался найти психологическую его подкладку (I, 9, 8. I, 13, 9). В таких случаях он доискивался правды у других очевидцев. И так, если в тех случаях, где контроль возможен, мы находим, что автор, обладавший начитанностью во всех в изобилии еще существовавших тогда исторических книгах, не только выбирает из них самые лучшие, но и тщательно проверяет их показания, то справедливость требует предположить тот-же дух и там, где оценка и контроль для нас невозможны. Ставить же ему в обязанность при каждой заметке систематическую методическую критику, точное взвешивание и мелочное докапывание истины, значит требовать больше, чем можно и должно требовать от описания. При такой мерке не многие древние историки с честью выдержали бы критику, так как строгая критическая обработка явилась только недавно, как продукт новейших требований. Потому надо, конечно, указать на встречающиеся ошибки и недоразумения, но никак не основывать на них строгий приговор.
Критика, конечно, не может пройти молчанием документов, служебных записей и надписей, послуживших источниками его историческим наброскам. Под служебными записями нельзя подразумевать архивов, но скорее предписания высших властей, составленные с целью публикаций. Сюда относятся акты илейцев об олимпийских играх, на которые Павсания неоднократно ссылается (III, 21, 1. VI, 2. VI, 19, 13,4, VI, 22, 3. X, 36, 9). По-видимому, это был род протокольных записей, в которые вносились олимпиады, их распределение, предпринятые перемены, имена победителей с названием отца, отечества и рода борьбы, вероятно и имена элланодиков, особенные случаи и т. д.; были ли обозначены и другие бойцы, непобедившие, с достоверностью неизвестно. Из выражения (V, 21, 5) «как назывались желавшие выступить против него, забыл я, или эксегемы элейцев» можно заключить, что в официальных документах не было имен всех борцов или всех записавшихся на состязания, но поименовывались только победители. Эти протоколы несомненно распространялись в списках, иначе Павсания не мог бы ими пользоваться, так как книгу свою он писал не в Олимпии, и едва ли требовал себе выписок ради отдельного случая. Записи эти велись с некоторыми пропусками в хронологическом порядке, но трудно определить, с какой они начались олимпиады. Само собой разумеется, что не с первой, как видно из не совсем ясной приписки VI, 19, 13, где сказано: «вероятно, в то время олимпиады илейцами еще не записывались.» Но спрашивается: в чем он, собственно, сомневается? неужели нельзя было решите вопрос наверное? Как согласовать слова эти с X, 36, 9, где говорится, что 211-ая олимпиада единственная, обойденная в списке илейцев? Не хочет ли он сказать этим, что ряд помеченных в списках олимпиад велся только с определенного года? С другой же стороны, толкованию нашему противоречив, по видимому, V, 8, 6, где утверждается, что записи начинаются с первой календарной олимпиады Корива и ведутся без всякого перерыва. Тут многое очень темно; темно и то, принадлежат ли древние илейские списки, из которых Павсания берет помещенную в V, 4, 6 родословную заметку, официальным протоколам олимпиоников или нет; отрицательный ответ вероятнее, не даром же предполагает Павсания в VI, 13, 8, что списки победителей на Немейских и Исѳмийских играх велись прежде с недостаточной точностью. Нельзя потому не одобрить, что Павсания безусловно верит только официальным документам.
Кроме этих официальных протоколов, илейский победитель Паравалон стал, для поощрения борцов, записывать имена победителей в Олимпийской гимнасии (VI, 6, 3). Этому примеру последовал, когда сделался , элланодиком, илеец Евапорид, победивший еще бывши мальчиком (VI, 8, 1). Хотя предприятие было частное, Павсания мог извлечь из него пользу, так как уклонения от официальных записей немыслимы.
Целью этого перечня было записывать только победителей; из приведенных обоих мест даже не видно, был ли ряд победителей полным, или оба составителя записали победителей только тех олимпиад, в которых, сами, одержали победы, хотя про Евапорида сказано, что он записал победителей, сделавшись элланодиком. Отсюда можно заключить, что и эти записи состояли под служебным надзором и не ограничивались двумя олимпиадами.
Весьма уместно возбудить здесь вопрос: каким образом сохранилось для нас столько имен недобившихся победы борцов. Каким образом уцелели имена изгнанных и наказанных элланодиков? Воздвигнутые из штрафных денег статуи Зевса имеют, положим, надписи, но на них нет имен наказанных; не желали, вероятно, позорить их семейства. Павсания неоднократно опирается при этом на свидетельство олимпийского эксегета, но не на служебные записи. Так как из упомянутых атлетов первые провинились в 98 олимпиаду (V, 21, 8), другие в 112 (V, 21, 5), третьи будто бы в 178 (V, 21, 9), то ясно, что эксегеты не могли следовать словесному преданию. Потому мы неизбежно должны прийти к заключению, что существовала еще весьма вероятная литература эксегетов. Такие составленные эксегетами записки об истории городов, достопримечательностях, празднествах их родных городов и т. д. не могли иметь большего распространения, совершенно так же, как бывает и у нас с литературными произведениями подобного рода. Они читались или только самими составителями, или пользовались ими, как путеводителями, при чужестранцах. Где же, как не в Олимпии, мог раньше всего почувствоваться недостаток в таком спутнике? А так как между тамошними эксегетами наверное было не мало людей, получивших хорошее образование, то, пользуясь служебными и, без сомнения, в изобилии существовавшими частными источниками, они могли собрать и об истории олимпийских игр обильные, входящие в мелочные подробности, сведения. Следовательно, Павсания мог вполне полагаться на сообщения этих людей, и из сочинений их выбрал отдельные заметки. Этим объясняется, что он хочет сказать в III, 21, 5, где о противниках Калипа говорится: «как их звали, забыл я или эксегеты илейские.» Заслуживает особенного внимания, а вместе с тем доказывает осторожность, с какою Павсания проверял свои известия, место в V, 21, 8 — 9, при чем он, кажется не догадался, что или элланодинки могли обнаружить подкуп до выдачи венка, или что Филострат не победил, не смотря на подкуп. Что касается аттических и лакейских списков сражавшихся против Ксеркса союзников (VII, 6, 3), официальное происхождение их может быть легко заподозрено; лаконский каталог, вероятно, только перечень соратников Леонида при Фермопилах; аттический же — состав сражавшихся с аѳинянами при Евбее и Саламине союзников; и тот и другой, весьма вероятно, заимствованы из какого нибудь подробного исторического сочинения; то же относится и к списку городов, составивших анти-македонский союз (I, 25, 4), а также ополчившихся против галатов (X, 20, 3), — так точно, как из Геродота Павсания заимствует список олимпийских борцов, и пользуется надписью для перечня участвовавших в Платейской битве (V, 23, 1, 2). Для нас достаточно, что он везде ищет добросовестных свидетелей.
Обратимся теперь к надписям. Павсания пользовался ими очень часто и притом вполне согласно своей цели; сохранением же их оказал нам важную услугу. В его умении мастерски разбирать их еще никто не усомнился; равным образом старательность при списывании не может подлежать сомнению.
Так как надписи, которыми пользуется Павсания, в его время еще не были испорчены, а время и погода не сделали их нечеткими, то мы можем вполне ему доверять. Где у него является сомнение, он сам высказывает: напр., в VI, 19, 5 относительно надписи на гробнице Кипсела Павсания говорит, что трудно проследить повороты строк, и разобрать их почти невозможно. Все-таки, нужно признаться, он хорошо преодолел все трудности, за исключением, может быть, одного места.
При пользовании надписями он выказал такую же добросовестность, как и при остальных источниках; и здесь он не принимал всего на веру, а тщательно исследовал. Так, в Антикире нашел он статую Ксенодама, поставленную в честь победы его в олимпийском панкратии. Павсания мог бы этим и удовольствоваться; но он, напротив, сперва просмотрел илейские списки, и так как никакого Ксенодама, победителя в панкратии, не нашел, то весьма осторожно заметил: «если надпись не выдумка, то Ксенодам должен был победить в 211 олимпиаду, так как она единственная, которую, говорят, пропустили илейцы» (X, 36, 9). Cp. VI, 3, 8. VI, 13, 2.
В первой книге находятся данные из надписей, которые уцелели или найдены, и, следовательно, у нас есть возможность его контролировать. Мы видим здесь (причем я, однако, снова указываю на небрежное составление первой книги), что Павсания не везде передавал полное содержание надписей, но брал только-то, что считал для своей цели годным; обвинение же в подделке, которое позволили себе некоторые, совершенно неосновательно. Рассказывать все в полном объеме он вовсе и не собирался, и несколько раз прямо повторяет, что делает тщательный выбор. Так мы видим, что при описании улицы в Аѳинах с надгробными памятниками, он пересчитывает совсем не все гробницы, но только лучшие (I, 29, 10), и отнюдь не перечисляет всех вырезанных имен; I, 29, 4 он говорит, что на базисах стояли имена и димы, но мы находим только на одном. Думали обличить Павсанию еще в другом месте, которое относится к жертвенному Олимпийскому подарку в честь Платейской битвы, V, 21, 1. Дело основывается на очень интересных исследованиях; в результате высказывались в том смысле, что «список Павсании после открытия надписей на делфийской трехглавой змее должен быть отчасти изменен;» было бы однако полезнее это изменение, касается ли оно текста или списка, совершенно оставить или по крайней мере отложить до нового разъяснения[3].
Очень многие заметки Павсании основываются на надписях, хотя это и не везде сказано, иногда даже бывают взяты из них целиком выражения, как случилось, напр., в VI, 16, 8.
Имена атлетов, статуи которых поставлены в Олимпийском Алтисе, наверное взяты прямо из надписей, равно как и имена художников. Едва ли нужно было повторять это при каждом заимствовании. Скорее непозволительно предполагать надписи там, где нет ни малейших на то указаний, особенно при описании крупных памятников искусства. Так, напр., при реставрировании амиклейского трона покрыли воображаемыми надписями целые стороны, хотя у Павсании об этом не находим ни елова; все приводимые основания, даже имя «Вирис» из которого выводили возможность существования надписей, не выдерживают ни малейшей критики.
Указав источники исторических сообщений Павсании и манеру его пользоваться ими, прибавим еще кое что о его набросках мифического и героического характера. Из письменных источников первое место, конечно, занимает Гомер, чего он мог бы даже и не писать. Как высоко однако он ни ценит Гомера (ср. II, 21, 10) и как охотно ни следует ему в вопросах географии, генеалогии и мифологии, все-таки он не так слеп, чтобы в названиях и выражениях не идти своим путем. Вероятно, он настолько знал Гомера, что не часто заглядывал в книгу, но приводил стихи на память. Есть некоторые уклонения от оригинала, и критика едва ли имеет право исправлять их. Сравнивая, напр., его передачу сказания о дочерях Пандарея (X, 30, 1 — 2) с Гомеровским текстом (Од. XX, 66 сл.), мы нисколько не должны ужасаться, когда он говорить «евбейцы», где Гомер говорит «аванты» (сравн. Ergänz. — Bl. z. Allg, lit. Zeit. 1840, S. 763). Какую пользу извлекает Павсания из сочинений Гомера даже в вопросах искусства, видим из IX, 41, 3 — 5; довольно интересно, что он проверяет подлинность мнимых украшений Ерифилы единственно по некоторым местам из Гомера, и решает вопрос настолько удовлетворительно, насколько возможно там, где решающий голос дается эпическому стихотворению. Что Павсания основательно изучал Гомера и Гезиода, видим по крайне оригинальному, непонятному в смысле сокровенных мотивов месту в IX, 30, 3, наравне с которым надо поставить X, 24, 2 — 3, а для Гезиода ІX, 31, 4 — 5. Примера ради, обратим еще внимание на мнение его об Орфийских стихотворениях (IX, 30, 12), о Ѳиваиде IX, 9, 5), об Евмиле — II, I, 1. IV, 4, 1 и V, 19, 10. Кто после того будет отрицать, что Павсания везде выказывает осторожное и пытливое отношение к прочитанному, — чему нельзя не быть благодарным, так как, по неимению самих стихотворений, поверка его слов становится довольно затруднительной.
Древнейшие героические,сказания греков, довольствовавшихся наивной простотой и обыкновенным рассказом происшествий, не заботясь далее о происхождении героев, дали позже повод к расширению рассказов, особенно при страсти к генеалогическим выводам (X, 6, б), и облегчили возможность сочинять героям нисходящие и восходящие родословные (I, 37, 7). При такой свободе обращения с мифами, где очевидно играли роль весьма разнообразные цели, не могло не случиться, что предания, по месту, времени и обстоятельствам, подвергались различнейшим изменениям, и особенно, благодаря свободной игре фантазии, страдали родословные таблицы (VIII, 53, 5). Все это Павсания понимал очень хорошо; важность родовых таблиц для него не ускользала, и он охотно разыскивал у стихотворцев и логографов допускавшие двоякие толкования места, иногда же к дальнейшему исследованию побуждала его случайно найденная неточность. Так, например, его очень интересовало доискаться точных сведений о потомках Поликаона; для этой цели он читал Иэи, Наупактскую поэму, генеалогические книги Кинеѳона и Асия, но скоро убедился, что все они ничего ему не объяснили (IV, 2, 1). Вслед затем другой вопрос — предания, поэты и логографы, — затрагивающие который, что ни строчка, противоречили друг другу, — дал ему повод высказаться, что в древнейшей истории Греции большая част пунктов спорная. Нас же подобные случайные исследования и указания должны привести к убеждению, что Павсания сообщения свои писал не наобум, но что он, где нужно, делал серьезные предварительные исследования.
Нельзя достаточно высоко оценить заслугу Павсании и по коллекционированию живущих еще в народе преданий. Поистине удивительно и объяснимо только твердой точкой опоры, которую давал народу Гомер, это необыкновенное богатство преданий, удержавшихся и даже вновь образовавшихся у греков, не смотря на все постигшие их перевороты и случайности. Он искал и собирал их с большим усердием, и найденное записывал в неприкрашенном виде. И именно эта, особенно заслуживающая благодарности черта, послужила поводом к неоднократным порицаниям; его обвиняли в легкомыслии, недостатке критики и даже в подделке. Все эти упреки или несправедливы или неосновательны, и происходят большею частью от недостаточно основательного знакомства с книгой, как результат случайного пользования отдельными листами. Что касается легковерия, то нужно бы думать, что при передаче преданий едва ли при чем ни- будь вера; если только пересказанное верно передано, нет никакого дела до веры или неверия рассказчика. Но именно у Павсании видно совсем иное отношение. Но говорит ли он прямо (VI, 3, 8): «я, конечно, должен рассказать, что рассказывают греки, но верить всему мне отнюдь не нужно;» или еще (II, 17, 4): «это предание да и многое другое, что рассказывается про богов, я записываю не веря, тем не менее записываю»; или (IX, 30, 4. II, 29, 9): «греки верят многому,что неправда, так напр.» — Выражения: «если это правда», «кто тому верит», «пусть верит кому охота», «пусть верят другие» и подобные повторяются часто; «говорят», «есть поверие» и т. д. можно встретить почти на каждой странице. Какое же здесь после этого легковерие, опрометчивость? Неужели в угоду тем, которые пользовались выдержками из его книги, он должен был при каждой легенде уверять их в своем неверии? Для тех, кто знает Павсанию целиком, это вряд ли потребуется; он очень хорошо знал подвижную природу предания, и не видел в нем символа веры. Павсания сам довольно ясно указывает на влияние, которое поэты, в особенности трагики, нередко имеют на развитие и преобразование фабулы. В народе — говорит он (1,3, 3) — рассказывается много басен, ибо, не зная истории, он все считает за правду, что с детства слышит в хорах трагедий». Заметим еще VIII, 2, 6 — 7. Он знал также, с какой стойкостью парод придерживается того, чему раз верит, не заботясь о правде. «Эксегеты аргивцев, говорится II, 23, 6, очень хорошо знают, что они не все говорят согласно правде, но все же говорят; ибо не так-то легко разуверить толпу в том, чему она раз поверит».
Как же можно после того говорить о легковерии Павсании? Конечно, предания, сообщенные ему словесно или почерпнутые из писаний, он брал без критики. Если под этим понимать, что он не подвергал предания такой обработке, как Гримм, то это замечание бесспорно верно. Никто, однако, не будет равнять Павсанию с Гриммом,
Что же ему собственно было критиковать? Он писал путеводную книжку и при этом сообщал касавшиеся отдельных местностей поверья, как они ему были рассказаны; критиковать или рассуждать он мог в большей части случаев считать делом излишним. Если случайно он и сообщает рассказы, правдивость которых можно заподозрить, то он, вероятно, следовал хорошему, высказанному в IX, 21, 6 правилу, что не нужно торопиться в суждениях и тотчас отбрасывать все, что может казаться невероятным только но необычайности.
Свое отношение к мифическим сказаниям он высказывает в VIII, 8, 8, что сначала он считал мифы за наивные сказки, впоследствии же пришел к убеждению, что греческие мудрецы древнейших времен открывали свое учение не прямо, но в картинах и образцах». Он знал также, что «во всякое время были люди, которые не только события древности, но даже события настоящего времени делали невероятными тем, что к правде примешивали неправду, и особенно свойственно это страстным рассказчикам всяких преданий, всегда готовым присочинить что нибудь чудесное; таким образом даже правда искажается неправдоподобными добавками» (VIII, 2, 6-7).
Так например, ему не кажется невероятным, что боги обратили Ликаона, в наказание за волчьи наклонности, в волка, но что такое превращение человека в волка и обратно в человека (если только волком он не ел человеческого мяса) постоянно повторяется, этому он но верит, и потому совсем не склонен считать оборотнем, как учит предание, Дамарха. (VIII, 2, 6. VI, 8, 2). Если при этом примем еще к сведению, что не редки те случаи, где он восходит до самого источника мифа и с ученостью излагает его развитие (напр., в мифе о Харитах), то наверное нельзя будет упрекнуть его в легкости и небрежности, а скорее отдать ему за его старания должную честь.
Из всего этого отнюдь не следует, что Павсания в критике своей был всегда на столько проницателен и осторожен, на сколько мы могли бы желать или ждать; нередко придется нам решительно отвергать, как бессмысленный вздор, все его выводы и наотрез отказаться от солидарности с ним, но за то и стоял он на совершенно иной, чем мы, точке зрения. Если ему и действительно недоставало дара проницательности, плодовитой фантазии, то, критикуя, мы но должны забывать цели автора, и обязаны сперва уяснить себе, что можно требовать от простого описания. Правдивость и добросовестность его во всяком случае всегда вне сомнения, и конечно весьма несправедливо обвинять Павсанию в том, что он «не постеснился перенести на греческую почву даже сказку о Рампсините» (IX, 37, 5 — 7). Ведь ему указывали места действия? или он и это перенес? Гораздо проще объяснить, что эта сказка, как и многие иные, не приурочена к определенному месту, — в чем п состоит одно из существенных свойств сказаний.
Особенно внимательно останавливается Павсания на различных религиозных обычаях и местно почитаемых богах, которым не забывает принести и свою жертву. Так, больше ради Димитры, но не ради тамошнего храма, предпринял он путешествие в Фигалию (VIII, 42, 11). Жалеет, что не прибыл раньше, чтобы видеть высокочтимое изображение Евримоны, храм которой открывался ежегодно только один раз (VIII, 41, 6). С верой посещает он оракул Трофония в Левадии и подчиняется всем предписанным обрядам (IX, 39, 14); и именно благодаря возбуждению религиозного настроения и всех чувств могло случиться, почему он вместе с обыкновенными посетителями считает Трофония сыном Аполлона, а не Ергина (IX, 37, 5).
Как же теперь объяснить, что человек, с таким рвением исполняющий религиозные обряды, странствовавший по Палестине и Египту, до мелочей знавший западный берег малой Азии, и побывавший в Риме, сделавший Грецию предметом своего описания, нигде не обращает ни малейшего внимания на христианство, в такое время, когда в названных странах было не мало многочисленных, даже видных христианских обществ? Явление это так поразительно, что мы невольно, хотя и совершенно напрасно, стараемся доискаться причины. Конечно, встречаются некоторые места, в которых можно было бы предполагать намеки на христианство; напр. X, 12, 11, где сказано: «столько женщин и мужчин уже задолго до нашего времени воодушевленно проповедывали об едином боге, что легко может опять случиться нечто подобное»; или когда он VIII, 2, 6 говорит, что «всегда были люди, которые делали события древности невероятными тем, что к правде примешивали неправду». Таким же образом можно, пожалуй, вычитать в VI, 8, 4 сильное неодобрение исканию мученичества, или в IV, 19,1 намек на воскресение мертвых, или даже Воскресения (I. Хр.) в истории христианства, Однако нельзя придавать таким предположениям слишком много веса, а скорее сознаться, что намеки эти замечены потому, что их ревностно искали; во всяком случае останется необъясненным, почему Павсания довольствовался такими скромными тайными намеками, когда ему ничего не препятствовало высказаться открыто. [См. VIII, 38, 7, где есть тайный намек на принесение человеческих жертв. Вероятно, религиозный страх удерживал его высказаться более ясно].
Было бы интересной задачей составить из высказанных Павсаниею мнений подробную картину его религиозных, нравственных и политических убеждений, не потому чтобы характер его представлял нечто из ряду вои выходящее, но потому, что тогда, во время полнейшего упадка язычества, когда сознательно или бессознательно всюду стали прокрадываться новые религиозные воззрения, существовало немного людей старого закала и убеждений, для характеристики которых Павсания представляет такой богатый материал. Обстоятельная в этом отношении работа есть труд Krüger, Theologumena Pausaniae, Lps. 1860; по предмет этот далеко еще не исчерпан.
6. Следует принять во внимание также художественно-историческую сторону книги. Павсания не был ни художником, ни знатоком, а при начале своей работы едва даже любителем; по крайней мере, в первой книге он высказывает скорее известного рода нетерпение излагать свои сведения о галатах, Птоломеях, Лисимахе, Димитрии, Пирре и т. д., чем желание заниматься произведениями искусства; и здесь все его сообщения об искусстве до невероятности бедны и недостаточны. С ним однако случается тоже, что и со многими теперешними путешественниками, которые приезжают в Италию со вполне неразвитым в художественном отношении вкусом, но скоро невольно увлекаются, и тогда, охваченные более или менее правдивою любовью к произведениям искусства, считают нужным обратить предпочтительно на них свое внимание. Именно такой поступательный интерес можем мы проследить и у Павсании: интерес возбуждается и питается по мере количества виденного; художественный вкус вырабатывается упражнением. Старательно собирал он свои заметки и перерабатывал их трезво, без ораторского восхищения, постоянно имея в виду цель своей книги, как путеводителя. Как ни одобрителен образ действий Павсании с его точки зрения, все-таки нельзя отрицать, что мы чрез это многое потеряли, и только можем сожалеть о трезвости и узкой цели автора, так как он всегда почти предполагает, что современники его обладают навыком и знаниями, которых у нас большею частью нет, а потому случается, что нам сообщения и указания его нередко темны, и даже совсем непонятны; иногда мы даже после большего труда и всяких ухищрений получаем в результате весьма неполное представление о таких вещах, для полной наглядности которых Павсании стоило прибавить только несколько коротеньких строчек. Беда в том, что он писал не для нас, а потому мы должны помириться, что многое навсегда останется сомнительным или открытым. Действительно, нам часто приходится жаловаться на неясность слога. Во первых, почти нигде нет определенных технических выражений; изложение вообще страдает известной сбивчивостью, благодаря, напр., неточному употреблению предлогов; почти же всегда мы остается во мраке там, где желательнее всего найти сколько нибудь ясные указания. Как часто остаемся мы в неведении, из чего сделаны произведения искусства, какой они имеют вид, полных ли статуй или только рельефов. Как часто, даже при замечательнейших произведениях, мы не знаем ни их наружного вида, ни места постановки, и должны ограничиваться собственной сообразительностью. Сколько вопросов остаются открытыми даже в тех четырех произведениях искусства, на которых он останавливается дольше всего, — я говорю об Амиклейском троне, Олимпийском Зевсе, гробнице Кипсела и Полигнотовых картинах в Дельфах. Видеть их было бы, конечно, достаточно, чтобы устранить все сомнения; Павсания именно и предполагал возможность личной проверки его слов, что было возможно его современникам, но не нам. Он прямо приводит читателя к Амиклейскому богу и тотчас начинает объяснять изображения; но стоял ли трон в храме или под открытым небом, как был он построен, из камня или из дерева, все подобные очевидные подробности ему не нужно было описывать: они были видны и без того. Впрочем, при гробнице Кипсела он предпосылает кое какие, но вряд ли обстоятельные заметки о материалах, из которых она была сделана; но о форме и величине её нет никакого намека, а между тем именно эти подробности необходимы, чтобы обстоятельнее познакомиться с произведением искусства. И сколько остается разрешить вопросов относительно Полигнотовых картин в Делфах! Где, напр.,была Лесха, и как распределялись картины в общем и в частности? Если благодаря этим недостаткам, которые, впрочем, как уже сказано, находят оправдание в цели самой книги, объем наших сведений значительно стужен, то наверное мы выиграли в смысле неизбежной, навязанной нам умственной гимнастики; и неужели выигрыш не возмещает потерю?
7. Из сказанного уже достаточно ясно, что целью книги было не столько описание, как объяснение произведений искусства, при чем само собой понятно, что строгое исключение всякого описательного элемента едва ли было возможно, и отнюдь не необходимо. Поэтому мы с благодарностью принимаем те описательные заметки, которые автор нам вставляет в отделах об олимпийском Зевсе, картинах Полигнота в Делфийской Лесхе и за все прочие, там и сям разбросанные намеки, не имеющие ничего общего с пояснением художественных произведений и вставленных в большинстве случаев с совершенно непонятною для нас целью. К таким заметкам я невольно отношу мелочную добросовестность, с которою он отмечает присутствие или отсутствие и также внешний вид бороды при весьма многих статуях. При объяснении отдельных моментов, изображенных на художественных памятниках больших размеров, он следует, всегда известной методе, которая без сомнения была совершенно понятна наблюдателю, но которой мы, однако, к сожалению не понимаем, именно потому, что нам не достает наглядности. Правило, которому он хотел следовать при рельефах амиклейского трона, он сам, высказывает в III, 18, 10; но ясно только, говорит ли он, что. не хочет подробно перебрать все изображения отдельно, так как большая часть их и без того легко понятна (что значило бы, что часть он хочет обойти молчанием), или же смысл заметки таков, что, в виду наглядной вразумительности большей части рельефов, точное объяснение считает ненужным, и хочет ограничиться только кратким перечнем изображений. Как бы то ни было, нужно признать внимание и старательность, с которой автор поясняет изображения. Конечно, ни в каком случае нельзя утверждать, что он нигде не ошибся, что везде стал на верную точку зрения, почему объяснения его будто бы безошибочны; напротив, мы можем откровенно признать, что с ним, как и со многими толкователями, случалось, что он с апломбом попадал мимо цели. Конечно, мы частенько найдем, что, при объяснении бесчисленного множества олицетворенных мифов, он не редко мог не напасть на правду; но справедливость требует, первым делом, отнестись недоверчиво к самим себе. Павсания был окружен такой художественной атмосферой, с которой жалкие, уцелевшие до нашего времени и приводящие нас в восторг остатки не выдерживают и отдаленного сравнения. Он осмотрел, и притом не бегло, но спокойно и обдуманно, массу художественных произведений в настоящей их обстановке и полной целости. Значит, в его распоряжении были средства для критической и сравнительной оценки настолько богатые, что даже при самой благоприятной обстановке мы перед ним насуем. Да и в мире греческих мифов он вращался, как настоящий туземец. Для него они еще жили, он знакомился с громадным большинством их в верованиях народа, в сочинениях поэтов и других писателей, в наглядных творениях искусства; а мы часто должны по клочкам собирать наши знания из скудных объедков и жалких поскребков схолиастов. Заметим теперь, что объяснения Павсании отнюдь не похожи на мимолетные мысли, но часто он, как мы сейчас увидим, не только в общем, но и в частностях старательно изучал более значительные произведения; и потому мы обязаны принимать его данные с известным уважением, и только в таких случаях предполагать недоразумение, где мы с достаточной верностью можем указать источник ошибки или оправдать нарекания наши безусловной логической необходимостью. В намерения Павсании не входило перечислять все художественные произведения: в действительности он умалчивал о неимевших особенной ценности, и ограничивался только теми, которые в каком-нибудь отношении казались ему достойными внимания (I, 23, 4. I, 39, 3. III, 11, 1); при этом он обращал, главным образом, свое внимание на произведения искусства, отличавшиеся особенными художественными достоинствами, принадлежавшие известным художникам, замечательные но своей глубокой древности, или по другим посторонним обстоятельствам, как-то, по материалу, историческому значению, или по особенному, которым они пользовались, уважению. Чтобы держаться при этом определенного метода, он начинал с художественно-исторического обзора. К сожалению, он не называет книг, которыми при этом пользовался, но несколько раз в сомнительных случаях ссылается на людей, «которые занимались историей искусства» (V, 20, 2. V, 23, 3). Из этого мы видим, что Павсания не довольствуется кое-как схваченными на лету заметками, но в сомнительных случаях — если не упоминает об этом — пользуется книжными выдержками. Из этих-то сочинений он и берет, по всей вероятности, попадающиеся иногда заметки об артистических школах и так часто встречающиеся указания на учителей отдельных художников. Если это предположение верно, то сообщения его значительно выигрывают в ценности.
Первый вопрос при каждом произведении искусства он ставит о мастере и его школе. Ответ на этот вопрос находил он. обыкновенно в надписи, а также в словесных или письменных заметках эксегетов, наконец в только что упомянутых историях искусства. Если же по было ни того, ни другого, ни третьего,, он ограничивался собственными домыслами, руководствуясь художественным стилем, а может быть и иными данными для критики. Если имя художника бывало в надписи, что случалось весьма часто, то вопрос считался оконченным; указания же эксегетов и их записок он также мог подвергать критике, как видим из некоторых данных. Что он не слепо предавался и верил их сообщениям, ясно из многих примеров.
Так он (X, 38, 5 — 7) сомневается в том, что говорили ему амфисийцы о своем изваянии Аѳины. Харит при входе в аѳинский акрополь предание приписывало Сократу, сыну Софроникса; но там, где дело касалось преданий, он и сообщает его буквально, между тем как в IX, 35, 7, где имя художника было безразлично, Павсания без дальнейшего называет их Харитами Сократа. Где ничего определенного известно не было, он помогал себе различными предположениями; так, например, Аоипу Ерифейскую он приписывал Ендию (VII, 5, 9), картину Аполлона Исминия в Ѳивах работе Канаха (IX, 10, 2). Выдерживают ли критику все эти предположения или нет, нужно, конечно, исследовать в каждом отдельном случае; но здесь этому не место. Где не было даже оснований для предположения, он открыто сознается, что не мог угадать имя мастера (X, 37, 3).
Раз покончив с вопросом о художнике, он обращался к объяснению произведения. При изображении богов, вряд ли могло вкрасться сомнение; при статуях людей, особенно олимпийских победителей, наверное всегда были надписи, и в этом отношении не требовалось дальнейших изъяснений, исключая некоторых, вызванных посторонними обстоятельствами, случаев. При неимении положительных сведений, он держался также преданий, на что никогда не забывает сослаться. Так, напр,, в Аѳинах в Пропилеях стояли две статуи всадников, которых предание выдавало за сыновей Ксенофонта. Павсания оставляет неразрешенным, действительно ли представляют они сыновей Ксенофонта, или просто поставлены для украшения Пропилей (I, 22, 4); более глубокое исследование вряд ли привело бы к другому результату. Если же, напротив, попадался подходящий повод, он охотно пользовался им для общих объяснений; такому случаю мы обязаны интересными заметками об одеянии Харит (IX, 35, 6, 7).
Что же касается до четырех уже упомянутых крупных памятников искусства, они, не смотря на то, что Павсания посвящает им целые отделы, представляют для нас не мало затруднений.
На источники, которыми он пользовался при описании Амиклей- ского трона, нет никаких намеков, между тем в числе изображений есть такие, истолкование которых на основании одних догадок едва ли вероятно. Почему, напр., мог он узнать гиганта Ѳурия, центавра Орегия, Мегапенфа и Никострата? Как угадал он, что одна из фигур на алтаре представляет Вирис? Присутствие надписей, как уже было замечено, совершенно недоказано и даже невероятно; многочисленность же надписей безусловно должна отрицаться. Тем бесспорнее должны мы предполагать возможность сообщений эксегетов, или пользование письменной литературой, которая о таких грандиозных произведениях наверное существовала (ср. III, 19, 2). Если и нельзя приписать таким книгам каноническую важность, все же они были изданы людьми, которые жили в соответствующем художественном и религиозном мире и везде имели случаи проверить свои сомнения. Что Павсания, хотя и не был выдающимся критиком, был в этом отношении обставлен значительно благоприятнее нас, это едва ли можно отрицать; не смотря на это, именно описание Амиклейского трона навлекло на него наибольшие громы нынешних археологов.
Приведем в пример то место III, 18, 14, где сказано: «с какой стати Вафикл представил так называемого минотавра связанным и живым, уведенным Фисеем, не знаю.» Некоторые археологи вообразили себе, что Павсания смешал минотавра с мараѳонским быком; иногда даже кажется, что Стефани (Parerga Archaeo). 136), который вообще неблагосклонно настроен к Павсании, нарочно ищет выражений, как бы побольше его унизить. Павсания очень хорошо знал предание о мараѳонском быке, как мы видим из I, 27, 10; не может, да и не должно подлежат сомнению, что он чаще читал поэтические его описания и видел в художественной обработке, чем кто-либо из нас; равно нельзя допустить и тени подозрения, что после множества изображений минотавра, которые должны были и раньше попасться ему на глаза, он не был в состоянии узнать минотавра но оригинальным признакам, одинаково встречающимся на всех его изображениях. Встретив изображение с атрибутами минотавра, — которые наверное были, если только умышленно не отрицать способность Павсании видеть и понимать, — связанного и ведомого Фисеем, сам он (и его проводники) имел полное право удивляться и скромно высказать свои сомнения. Откуда и как могло явиться такое представление о подвиге Фисея, я не знаю. Если бы не узнали минотавра Павсания и его спутники, а видели только уводимого Фисеем быка, (чего вовсе нельзя допустить без оскорбительного для Павсании предположения, что он вовсе не умел узнать минотавра) — мы имели бы полное право заподозрить в нем мараѳонское чудовище. Раз допустив возможность смешать то и другое, остается только отказать Павсании вообще в возможности делать, на основании его заметок, какие бы то ни было археологические заключения. «Как могло Вафиклу, — продолжает Стефани, стр. 130, — который по всему, что мы знаем об Амиклейском троне, выказывает себя человеком умным, прийти в голову сделать такую глупость и к ряду множества изображений, воспроизводящих совершенно различные сцены из древних преданий, примешать одно, служащее повторением такого же изображения в другой части трона, только несколько в ином виде, без того, чтобы оба изображения основывались хотя бы на принципе орнаментальной симметрии? Что-же вероятнее: то ли, что такой художник, как Вафикл, сочинил колоссальную ошибку, или что слабоумный Павсания сделал в данном случае промах, погрубее обыкновенно у него встречающихся? Не говорит ли в пользу последнего предположения еще то обстоятельство, что за исключением э того места, минотавра всегда представляли убитым Фисеем на месте, а мараѳонского быка связанным и ведомым в неволю, — не говоря уже о том, что представление о странном и укрощенном чудовище вполне вяжется с обстановкой второй, но отнюдь не перкой легенды? Не ясно ли, что при данных обстоятельствах было бы действительно глупо повторять изображенное на внутренней части трона еще и снаружи?»
Не больше ли тут грозных слов, чем смысла? Собственно говоря, доказательство опирается на следующем, несколько через чур сильном, положении: «Вафикл был выдающийся, умный художник, о котором ничего нельзя подумать неумного, необразцового по мысли и выполнению, Павсания же, напротив, слабоумный глупец, не сумевший понять даже самого простого изображения.»
С такой аксиомой, конечно, можно многого добиться, но только тому, кто из неё исходит. Предположим (но отнюдь не допустим), что в самом деле двукратное изображение минотавра на таком крупном памятнике искусства, притом в необъясненном, несанкционированном преданием виде, действительно нелепо и не имеет смысла; по разве можно отрицать, что и величайшие художники имели порой престранные фантазии? Затем, нельзя же не признать,. что до сих пор не удалось, даже в величайших и роскошнейших произведениях греческого искусства (не исключая и Фидиевых), отыскать единство мысли в группировке отдельных фигур. Измеряя все масштабом единства мысли, найдем и в статуе олимпийского Зевса не мало нелепых несообразностей. Но кто- же был пресловутый Вафикл? Чем он был велик? В концепции, в группах, в техническом исполнении? И где почерпаем мы наше знание о нем? Единственно из Павсании! Если же он был слабоумным невеждой, то его словам совсем нельзя верить и значить, Вафикл не был замечательным художником. Доводы наши начинают походить на известный софизм: «все критяне лживы». А потому сами расследуем дело.
Говорят, будто «нет смысла в ряду изображений, которые все представляют совершенно различные сцены из древних преданий, помещать повторение одной, помещенной уже раз, в другом месте трона, положим, даже и в несколько ином виде.»' В чем тут состоит отсутствие смысла: в том ли что изображение не на месте, или в самом повторении?[4] Определенного порядка в группах не видно ни на внутренней, ни на наружной стороне; изображение минотавра снаружи непосредственно примыкает к битве центавров у Фолоса, внутри — к бою с центавром Ориосом. И так, отсутствие смысла зависит не от места изображения; еще меньше можно искать его в том, что тот же миф, только в другой момент действия, повторяется по другую сторону трона. Уже благодаря тому, что одно изображение внутри, другое снаружи, — следовательно они никак не бросаются в глаза одновременно, — повторение не могло нарушить целости художественного впечатления. Таким образом изображение представляло, повторяем, не вариацию того же сюжета, а другой момент действия, тем менее, следовательно, могло быть неприятно затронуто даже наиболее щекотливое чувство изящного.
Спросим лучше, неужели Вафикл в самом деле боялся повторений? Конечно, Гейне и Зибелис едва ли удовольствуются этим вопросом, а потому, не говоря уже об урядном числе харит на троне и возле него, битва центавров была изображена дважды: при Фолосе и с Ориосом; взятие Геракла на небо представлено также два раза — на троне и на вафре (18, 11 и 19, 3); на самом вафре горы являются два раза: сперва в сопровождении судеб [миры] потом муз; кроме того, они были изображены и на троне. Наконец, может быть действительно верно, что за исключением данного случая, и на сколько мы знаем Павсанию, минотавр всегда представлялся убитым Фисеем на месте, мараѳонский же бык уведенным в оковах; потому Павсанин и бросилось в глаза странное несоответствие. С своей стороны, я должен сознаться, что счел бы его недалеким критиком, если бы он не заметил несоответствия.
Еще две заметки. Вероятно ли, что весь этот богатейший цикл изображений на Амиклейском троне, — будь они мраморные, что мне кажется наиболее вероятным, или медные, — во всех подробностях исполнен одним Вафиклом? Неужели магнезийские помощники, которых он привел с собой из дому, были не более как работники и каменщики, и неужели он не мог найти таковых на месте? Не скорее ли можно принять, что Вафикл поручил и предоставил им разработку отдельных изображений, и даже самостоятельную работу, как себе оставил окончательную отделку и некоторые отдельные фигуры? Не может ли таким образом объясниться по-человечески все то, что в группах и расположении их кажется режущим глаз? Затем, я хотел бы высказать еще одно скромное предположение. Не с художественно-археологической, но с критической точки зрения, благодаря отрывочным фразам, которыми написан весь параграф о минотавре, кажется он мне подозрительным. Что если строчки перепутались, и § 16 должен стоять после слов: «и Фисея против минотавра»? Чрез это было бы устранено повторение, и связанный минотавр мог бы остаться на месте, нисколько не мешая минотавру убитому на другой стороне.
Храм Зевса Олимпийского наверное имел свою литературу, которою Павсания не преминул воспользоваться. Он решительно ссылается, хотя и не называя источников (V, 11,9), на сочинения, в которых были приведены размеры статуи, вероятно с обычной остротой на счет пролома крыши; остроту эту Павсания довольно ловко парирует намеком на божественное одобрение свыше. Что впрочем указанные сочинения, кроме размеров статуи, занимались вообще описанием храма и его внутренности, можно считать само собой доказанным, и вряд ли можно ошибиться, что истолкование на муле едущей Селены вместе с относящейся сюда «глупой сказкой» на подножии трона (V, 11, 8) — взяты из тех же сочинений.
Сам Павсания однако порицает это толкование. Где не хватало письменных объяснений, он приводит указания эксегетов·. Так, в группе на поле фронтона онисфодома был, между прочим, изображен и возница Пелопеа. Эксегет называл его Вилласом, Павсания же добавляет, что у тризинов он назывался Сфэрос. Неужели в таких мелочах не высказывается особенная старательность автора и совестливое отношение к делу? Эксегету же он, вероятно, обязан и заметкой об употреблении масла для сохранения статуи (V, 11, 10). Этим случаем он пользуется, чтобы рассказать, какое средство сообщили ему на его вопрос жрецы при Епидаврском храме в отношении своей картины. Равном образом и заметка о мраморных кирпичах храма, о их изобретателе, и приводимая в доказательство надпись в Наксосе могли скорее получиться словесным, чем письменным путем. Но и здесь многие считали себя в праве делать упреки. «Над дверью храма, говорится в X, 5, 9 — 10, представлена большая часть подвигов Геркулеса», — которые в числе одиннадцати и перечисляются. И вот возникает «гениальная мысль» (нигде не следует так остерегаться «гениальных мыслей,» как именно в археологии), что подвиги Геркулеса были распределены на метопах лицевой и обратной стороны храма, так что спереди и сзади находилось их по шести. Но для такого распределения не хватало одной работы, что и приписывалось небрежности Павсании, либо переписчиков. В одном из новейших археологических сочинений одиннадцать работ распределяются на двенадцати метопах таким образом, что мнимая небрежность Павсании исправляется, по собственной фантазии автора, как будто бы дело само собой понятно. Тем не менее это полнейший абсурд, — разве поставить за правило, что не нужно держаться текста. Ибо, во-первых, едва ли вероятно, чтобы кто нибудь вздумал помещать метопы «над дверьми;» далее, из выражения Павсании «большая часть подвигов Геркулеса» с полной ясностью следует, что это не были все подвиги Геркулеса. Также мало можно сомневаться в том, что Павсания умел считать до двенадцати, как и в том, что он знал двенадцать подвигов Геркулеса. Он, значит, считал, и так как одной не нашел, то и говорит, что изображена большая часть подвигов, как в действительности и оказывается, т. е. одиннадцать. Тут но надо хитроумствовать. Работы, вероятно, на самом деле тянулись над дверьми фризом.
Гробница Кипсела могла и не иметь литературы; большая часть фигур была объяснена надписями, и потому можно было обойтись и без таковой. Только третье и пятое поле были без надписей, и следовательно давали простор предположениям. Здесь Павсания ссылается (V, 18,6) на различные толкования эксегетов, которые однако его не удовлетворяли, так что он противопоставляет им собственное. Если исходить из предположения, что предшественник Кипсела велел изготовить гробницу, как семейную кладохранительницу, то это толкование Павсании имеет некоторое притязание на вероятность, хотя впрочем ни одному нельзя отдать решительного предпочтения. При группах пятого поля он довольствуется, и весьма основательно, объяснениями эксегетов.
Дольше всего останавливается Павсания на картине По литота в Делфийской лесхе, посвящая ей семь глав (X, 25 — 31); при этом надо заметить, что он не только объясняет отдельные группы, но и описывает их.
К услугам его было здесь много пособий. Во-первых, надписи, потом сообщения эксегетов (X, 23, 7), и, вероятно, произведение чисто литературного характера; но крайней мере, судя по X, 30, 7, кажется гораздо вероятнее, что мы имеем дело с письменными, чем с устными преданиями. Что касается имен лиц целых групп, то никакого сомнения не могло возникнуть, так как они были подписаны; но мог явиться вопрос, что должны были представлять собой Еврипом, Промедон, Теллис и Клеовея, и здесь, стало быть, приходилось объяснять не личности, но их смысл, особенно там, где вопрос касается фигур аллегорических. Полнейшего внимания заслуживает старательность, с которой Павсания выполняет свою задачу, и еще более неустанное прилежание, с которым он, на сколько это было возможно, разыскивает сведения о названных лицах у древних поэтов и логографов, чтобы доказать, откуда Полигнот заимствовал их имена. Обязан ли он этим богатству ценных заметок, собственной начитанности, что всего вероятнее, или частью дочерпнул из найденных им, касающихся Полигнотовой картины, книг, ни в каком случае не может быть ему отказано в том, что он для объяснения картины делал старательные изыскания, выполнил все, что только можно было требовать. Если нам и остается еще желать очень многого, то это неизбежно и по существу дела и потому, что Павсания не был художником, но только любителем искусства.
Если наш автор слишком часто, и совершенно неосновательно, обвинялся в отсутствии критики, то с другой стороны он не избежал упрека ив большом скептицизме. Один из выдающихся ученых[5] говорит: «Павсания (VIII, 1,8), заметив, что собственно Гомер ввел в поэзию название «Стикс», полагает, что творец Илиады, заставляя Геру клясться именем «струящихся вод Стикса,» должен был иметь в виду известный аркадский источник; с гораздо большей вероятностью мог бы он утверждать, что Гезиод сам видел Стикс при Нонакрии и воспользовался этой грандиозной картиной природы для своего вдохновенного описания божественного ключа; но легковерный Павсания, не знаю почему, очень мало сочувствует творцу Ѳеогонии, и высказывает в данном случае скептицизм, который сделал бы честь какому либо из наиболее проницательных критиков нашего просвещенного века… Со своей стороны я ни в каком случае не решился бы утверждать, что Гезиод, или древнейший поэт, которому Гезиод следовал, знали аркадский источник, и потом, по обычаю поэтов, разукрасили действительность; еще менее могу я одобрять мнение, будто вид этого потока мог зародить представление о «божественном источнике».
Против этого можно возразить очень многое. Что вид потока повлиял на «представление о божественном источнике,» Павсания не говорит; он просто сообщает факт, что имя «Стикс» введено в поэзию главным образом Гомером; но это утверждение основано не на созерцании потока, но на совершенно других причинах, которые для нас большею частью не поддаются проверке; но ему при виде потока вспомнились слова поэта (Ил. 15, 36) и он говорит, что выражение «ниспадающие по каплям воды» выбрано так удачно, как будто Гомер сам видел «по каплям струящуюся воду» аркадского Стикса. (Ср. Павс. I, 17, 5). Кажется, все очень просто, и пускаться в рассуждения о фантастическом описании божественного источника Гезиода едва ли была какая надобность.
На чем далее основывается утверждение, будто Павсания неблагосклонно относится к творцу Ѳеогонии — я не знаю, по крайней мере мне неизвестно ни одного места, по которому можно было бы судить о недоброжелательном к нему отношении. Не возможно же видеть признаки недоброжелательства в том, что Павсания несколько раз выражает сомнение, в самом ли деле Гезиод был автором названного стихотворения! Высокое значение Гезиода он везде признает, и ни стихотворению, ни автору не может принести никакого вреда, если кто и усомнится в авторских правах его. И все-таки кажется, что именно это сомнение и навлекло на Павсанию упрек в недоброжелательстве и в преувеличенном скептицизме. Вероятно, он подробно изучал Гомера и Гезиода; но к сожалению, и не на пользу нам, остерегся сообщить результаты; почти можно думать, что он побоялся и тогда уже существовавших охотников сваливать вину за всякий, несоответствующий их ожиданиям, результат на просвещенный век или, благороднее выражаясь, на самих просветителей.
На сколько можно судить по разбросанным скромным мнениям Павсании о стихотворениях Гезиода, он внимательно читал общепризнанное или приписываемое Гезиоду, а также принял к сведению существовавшую об этом литературу и, как всегда, выработал свой собственный взгляд. Кто может порицать такой образ действий, притом в деле, где он, по богатству бывшего в распоряжении материала, имел огромное преимущество пред нашей бедностью? Если бы он оспаривал у Гезиода легкомысленно и без причин, можно было бы выразить несправедливому скептику свое неодобрений; ревностный защитник установившихся мнений, пожалуй, мог бы счесть за дерзость, что Павсания осмелился поставить вопросительный знак. Но в этом он ничуть неповинен; сомнение в авторстве Гезиода было уже до Павсании; из его слов: «есть люди, которые считают Ѳеогонию за творение Гезиода», можем заключить, что сомнение это во время Павсании было господствующим, а он только усвоил его, в силу ли убеждения, или потому, что оно именно было господствующим. Как же обвинять его после того в скептицизме, притом в таком у который сделал бы честь дальновиднейшему критику нашего, просвещенного века? Не применить ли скорее этот упрек именно нашему, просвещенному веку?
Я' с намерением дольше остановился на этих характеристичных заметках, которые, впрочем, могут быть разработаны гораздо шире и глубже. Павсания служил предметом многократных заслуженных и незаслуженных порицаний. Очень многие, которые, случайно взяв в руки книгу его, не нашли в ной того, чего искали, позволяли себе в гневном увлечении изрекать обвинительные приговоры, хотя, может быть, сделали бы лучше, спросив сперва, не искали ли того, чего но справедливости искать не следовало. Что нам годится, мы принимаем охотно, как должное, но чуть только обманемся в неосновательных даже ожиданиях, сейчас выражаем неудовольствие.
Существует немного писателей древности, которых, чтобы верно судить о них, нужно, в общем и в частностях, знать так хорошо, как Павсанию; и однако о немногих писателях судили так резко и строго, как именно о Павсании, не смотря на то, что знакомились с ним иной раз только в отрывках или но указателю.
[1] Недавно вышло большое сочинение, посвященное критическому разбору «Описания Эллады» Павсании: Pavsanias der Perieget. Untersuchungen üb. seine Schriftstellern und seine Quellen, von Dr. Ai Kalkmann, Privatdocent der Archäologie an der Universität zu Berlin, Berlin 1886. Reimer. Сущность этого сочинения выражаете я в следующих заключительных словах (стр. 282): 'Павсания не проявляет ни дарований, ни опрятной работы, а проводники для иностранцев были в древности, как и в нынешнее время, невежды худшего сорта, как мы знаем из Плутарха; устное же предание вообще во II стол. не могло быть неподдельного достоинства. Эти факторы, по доселе существовавшему взгляду, в главном были руководителями при составлении периегезы Павсании. И на такую-то топкую почву опиралось произведение, которое в археологии должно иметь значение книги книг! Порадуемся лучшему знанию его достоинства и достигнутой уверенности, что серьезные исследователи прежних времен содействовали тому, что не прихоти и произволу какого-то позднего, по наслышкам работавшего сирийца или малоазиатца, очень сомнительного дарования, обязана своим существованием периегеза, но что история её происхождения отступает в более ранние столетия, когда еще собирали и исследовали с прямым намерением послужить истине».Примеч. перев.
[2] Отсюда следует, что Павсания составлял свое описание в большом -городе, где в его распоряжении было большое собрание книг. [Прим. Шубарта.] На это A. Kalkmann (Pausanias perleget, 246), основываясь на словах Павсании (V, 13,7 и IX, 21, 6) замечает, что Павсания составлял книгу в м. Азии.
[3] Ср. O Frick das Platäische Weihgeschenk zu Konstantinopel, in den (Jahnschen) Jahrbüch f. class. Phil. Supplemb. S. 487-555. Schub.
[4] Древнее искусство, современное эпосу, духом своим вполне соответствует этому роду поэзии, и нисколько не задумывается выражать в своих творениях целый ряд последовательных моментов одного и того же события. Если художественная критика не будет обращать внимания на историческое развитие искусства, то она всегда будет односторонняя. Настоящие художники никогда и не признавали истинности суждений полупосвященных любителей, пообращали внимание на смысл и значение произведений искусства, что ясно видно из многочисленных примеров, оставленных нам Cinquentist’ами. Напр., бронзовые двери Гиберти в флорентинском баптистерии — памятник, сравнительно, недавней эпохи, затем Рафаэлевские сцены из сказаний о Психее и мн. др. творения художников представляют собой именно такую группировку отдельных моментов одного итого же события, при чем вполне могли рассчитывать на сочувствие и понимание современников. Уже после того как искусство, следуя за поэзией, старалось схватывать одни драматические моменты действия, мелкоплавающие критики, не понимая духа, стали придираться к форме произведений. Прим. Руля [Ruhl.]
[5] Jahns, Jahresb. f. phil. 1860. 13. 81. 5. 402.
II. К истории Греческого Искусства
проф. Кекуле.
Весьма возможно, что греки заимствовали многое от других народов, но еще вернее, что все заимствованное они переработали по своему, и только тогда оно получило значение достойного, высокого и прекрасного.
Гумбольдт.
Общая характеристика.
Антики, искусство классической древности, противопоставляется, обыкновенно, новейшему, христианскому искусству, как единственная значительная совокупность явлений, ему противоположных. Оно обнимает собою видоизменения более чем тысячелетней истории, события, происшедшие вследствие различия в преобладании племен и народов, перемещения политических и умственных центров, контрасты, которые повели за собой перемены во внешней или внутренней судьбе человечества.
Краеугольными камнями истории искусства, как и истории вообще, служат имена Перикла. Александра, Кесаря и Константина. С Периклом греческое искусство в Аѳинах достигло не только полной свободы и самостоятельности развития, но и самых благородных форм, самого цветущего своего состояния; с Александром греческая культура и искусства перешли в Азию, откуда и были занесены в Грецию первые их зародыши; к эллинским государствам примыкает всемирное владычество Рима; на развалинах и формах распадающегося язычества строится христианский мировой порядок, христианская образованность и искусства.
Подобно тому, как греческое искусство возникло из отдаленнейших эпох, так и теперь влияет на наше искусство наследство греко-римских форм. В странах удаленных от Аѳин виднеются иногда отпечатки аттического духа. В Трире, на Рейне, в Австрии попадаются рельефы, мотивы для изображения которых ведут свое начало от Праксителева Гермеса. Но как бы обширны ни были границы по времени и месту для греческого искусства и его судеб, то, что имеет для нас действительное значение, что представляет его внутреннее содержание, его истинную сущность, а именно юношески свежее, обильное последствиями творчество национального эллинского духа, которое и повлияло на судьбу всего человечества, — все это сложилось в сравнительно короткий промежуток времени и на ограниченном пространстве собственно Греции. От 1-й олимпиады до Константина Вел. прошло 1100 лет, до смерти Кесаря 732, до вступления на престол Александра 440, между Левктрами и Мараѳоном 119. «Век Перикла», представляющийся вашему воображению символом высшего и вместе чуждого посторонних влияний процветания искусств, обнимает такой же короткий промежуток времени, как и чудесный период жизни и творчества Рафаэля; и но месту этот «золотой век искусства» ограничился только родным городом Перикла и Фидия.
Современной науке, искусству и образованию греческое искусство, как и все греческие древности, стало известно чрез посредство Рима, Владеющий миром город, собравший в себе все элементы античной культуры, чтобы сохранить их для позднейших поколений,был полон памятниками искусства,как древними, так и вновь возникшими.
Победоносные походы и политические цели, личное удовольствие и истинное понимание искусства, меценатство и грабеж, любовь к изящному и внешняя мода, богатство и жажда блеска и роскоши, все соединилось, чтобы привлечь туда все больше и больше сокровищ. Вслед за этим начались подражания лучшим оригинальным творениям греческих художников. Дюжинами появились в скульптуре повторения одних и тех же любимейших сюжетов. Кажется странным, что в неистощимой массе статуй в Риме сравнительно мало оригинальных; но разрушение не щадит ничего дорогого. Перевозились из Греции в Рим произведения, с которыми были связаны воспоминания личного, исторического или просто анекдотического характера. Произведения же лучших мастеров, если и были доступны, то во всяком случае за очень дорогую цену, да и их было слишком мало сравнительно с общим спросом на них, который и стал удовлетворяться воспроизведением копий с древних статуй.
Таким образом, блестящие мраморные изваяния римских музеев не всегда служат чистым отражением той эпохи, которой они обязаны своим происхождением; нет, часто приходится обратиться к прошлому, и нужно много труда, чтобы высчитать, что следует, приписать намерению изобретателей, и что внесли в них, преднамеренно или нет, последующие эпигоны — подражатели и извратители. Произведения оригинальной римской скульптуры сравнительно большего значения не имеют. Между ними самое выдающееся, поражающее впечатление чисто римского характера производят скульптурные украшения зданий и победных памятников, как напр., на арках. Тита или на Траяновой колонне, — они и соответствуют более всему складу римской жизни.
На основании того материала, который представляют памятники Рима, построена Винкельманом «История Искусства в древности.» Это — первое классическое произведение об истории античного искусства, появившееся в печати около 120 лет тому назад и приведшее в удивление корифеев немецкой литературы. Лессинг, Гете, Гердер и Шиллер — все с энтузиазмом отзываются об этой книге, которая и поныне представляет если не особенно важное, то во всяком случае серьезное и положительное значение.
В противоположность египетскому искусству, Винкельман ставит греческое. Первое, говорит он, однообразно, как искусственно выращенное дерево, рост которого остановился от различных случайных причин; второе разнообразно: оно живет и развивается· свободной, подчиняясь законам всего живущего, растет, процветаешь, потом хилеет и наконец умирает. Искусство, как всякое действие,, или событие, имеет в своем развитии 5 ступеней, 5 главных частей: начало, продолжение, состояние, упадок и окончание; поэтому и все классические пьесы делятся на о действий или актов. Но так как трудно усмотреть, нельзя определить время окончания для искусства, то в нем можно рассматривать только 4 части. Старый стиль длился до Фидия; его можно назвать высоким или великим, так как художники этого стиля дали художествам характер высокого или величественного. От Праксителя до Апеллеса и Лисиппа искусство выражается в самых изящных грациозных формах: это стиль прекрасного. Вскоре вслед за этими художниками, при подражателях и последователях их школы, искусство приближается к своему упадку: это стиль подражательный, третий стиль греческого искусства. Вот признаки старого стиля: «изображения выразительны, но грубы; энергичны, но не изящны; слитком яркая выразительность мешала красоте. Но так как искусство древности сюжетом своим брало богов и героев, с представлением о которых, по словам Горация, не связывалось представление о нежных звуках лиры, то эта грубость способствовала величию картины. Искусство было строго и жестоко, как и правосудие тех времен, когда малейшее преступление казнилось смертью. Однако переход этого стиля к следующему делается весьма понятным, если принять в соображение, что первый стиль обнимает собою самый длинный промежуток времени, так что последние его произведения весьма резко отличаются от первоначальных». Развиваясь на мужественных, хотя, может быть, и резких и угловатых фигурах, искусство достигло красоты и истинности формы.. «Наконец, когда в Греции наступила эпоха полной свободы, эта свобода отразилась и на искусстве! оно стало свободнее и возвышеннее». Старый стиль основывался на системе, законы которой были заимствованы из природы, но удалились от неё и сделались идеальными; работали более по предписанию этих правил, чем по законам действительности и природы; искусство создало свои особые идеалы,- которым и следовало. Против этой то системы, сделавшейся общепринятою, и возмутились новаторы в искусстве; они требовали возвращения к природе и правде, которые учили их придавать более мягкие-, расплывчатые очертания угловатым фигурам первого стиля, сделать пристойнее и разумнее их слишком резкие положения, причем они стали казаться менее научными, но зато прекраснее и возвышеннее.
«Главным основным законом первого стиля было, по-видимому, изображать богов и героев чуждыми всякой чувствительности, всякого внутреннего волнения, с уравновешенными чувствами и всегда спокойной, ясной душой. Здесь грации и не добивались,и не достигали».
Самого высокого, прекрасного слога достигает Винкельман в своем описании двоякой грации:
«Одна подобна Небесной Венере божественного происхождения, полна гармонии, постоянна и неизменна, как вечные законы этой последней . Другая грация есть Венера, рожденная от Дионы и сильнее подверженная всему материальному : она дочь своего века и только спутница первой, которую предвозвещает всем не посвященным в понимание небесной грации. Она спускается с высоты, и без чувства унижения, но с кротостью доступна всем, на нее взирающим; не стремясь возбуждать поклонение, она и не хочет оставаться в неизвестности. Первая же грация, служа спутницей богов, не нуждается в поклонении всех, а хочет, чтобы её добивались избранники; она слишком возвышенна, чтобы быть чувственной; по словам Платона, высокое не имеет внешнего образа. Она беседует только с мудрецами, а народу представляется высокомерной и неприступной. Она замыкает в себе все движения души, и приближается к блаженной неподвижности божественной природы, которую, по словам древних, великие художники имели целью вдохнуть в свои творения.»
Эта характеристика начертана неизгладимо для всех времен и, равно как и деление на периоды, должна послужить основанием для всякого рассуждения, стремящегося к разумному и постепенному изложению при обозрении искусства. Но такой простой формулой не исчерпывается вся полнота жизни в природе и искусстве. И в каждом отдельном периоде можно усмотреть время роста, цветущего состояния и упадка, как и в целых школах. Но упадок искусства не всегда предвещает его полное падение или смерть, а часто, особенно в Греции, видоизменения, при которых созидаются новые, приводящие в удивление формы вечно обновляющегося творческого духа. В ту эпоху, когда, по грандиозному наброску Винкельмана, за высоким и прекрасным должно было следовать слабое и манерное, мы находим творения, в которых нельзя не признать титанической смелости и полной художественной оконченности. К счастью для нас — потому что, при всей своей смелости, он, пожалуй, и не решился бы написать своего творения — у Винкельмана не было и приблизительного представления о несостоятельности материала, на котором он строил свою систему. С того времени на римской почве было найдено много новых творений, весьма поучительных в истории художества. Но лучшая добыча· явилась с той стороны, о которой у Винкельмана, когда он составлял план раскопок в Олимпии, были только предчувствия, из отечества греческого искусства, самой Греции. Конечно, многие из оригинальных греческих произведений находятся теперь не на родине. Большая часть скульптур Парѳенона, вместе с фризами из Фигалии, находка на Книде и в Галикарнасе перевезены в Лондон — это знаменитое сборное место как высокого, так и малого искусства Греции и Малой Азии; в Мюнхене находятся Эгинские мраморы, в Париже Ника из Симофракии и многое из Олимпии; Берлинский музей достиг неожиданного значения приобретением Пергамских раскопок. Но все таки в Греции, более чем во всех итальянских или северных музеях, придут на намять слова поэта:
Wer den Dichter will verstehen
Muss in Dichters Lande gehen.
[Кто хочет понять поэта, пусть идет в его страну.]
Более чем всякое другое, греческое искусство как бы высасывает свою силу из той почвы, на которой оно пустило корни. Ни солнца, воспетого Гомером, ни скал, ни моря, ни развалин старых храмов, внушающих и доныне удивление и благоговение, ни зданий, ни знаменитых могил не мог увезти с собою лорд Элгин. Греция переполнена прекрасными и поучительными памятниками и остатками древности, и с каждым шагом, который делает молодое государство для своего укрепления, возникают новые надежды на приобретение антиков. Когда лорд Элгин перевез барельефы Парѳенона в Лондон, это казалось почти их спасением. Но уже при раскопках в Олимпии, предпринятых германским правительством, сделалось очевидным, что все, найденное на греческой почве, должно достаться Греции. В высшей степени богатая добыча этих раскопок, маленькие самостоятельные музеи, которые возникают постепенно в городах греческих провинций, большие собрания в Аѳинах — в центральном музее, в Акрополе, в Политехниконе — все это привлекает всеобщий интерес, как собрания искусств чисто местного характера: они служат как бы различными ступенями, живописными наглядными изображениями классического искусства. Всякая наука может делать заключения, но не из отдельных примеров, а из целого ряда явлений. В этом отношении история искусства и великих художников имеет огромное преимущество пред археологией, так как в распоряжении современных историков много верных, обильных и несомненно подлинных источников.
Тем старательней должны они следить за артистической стороной бесконечного рода многочисленных экземпляров произведений, занимающих средину между ремеслом и творческой силой. Благодаря могучему единству духа, которым были до мелочей проникнуты все проявления античной жизни, благодаря тесной связи между ремеслом и искусством нередко удается, по едва заметным, почти ничтожным, признакам делать веские заключения относительно великих произведений искусства, и находить общие, присущие данной эпохе и местности, признаки.
Получить вполне целостное впечатление о данной эпохе и массе связанных с нею творений можно только на месте. Доказать это наглядно и осязательно, конечно, нельзя: не лондонские туманы делают нас впечатлительными к великим произведениям Фидия, а веселая местность Илисса, где на акрополе, на старом своем месте, к голубому небу высоко поднимаются величественные развалины Парѳенона.
1. Предварительные ступени и начатки.
Львы, сторожащие Микенские городские ворота, стали уже издавна считаться также и хранителями преддверия греческого искусства. И они с честью могут сохранить за собой это место. Но ныне, благодаря удачным раскопкам Шлимана, открывается более обширное поле для новых задач и соображений в области Микенских древностей.
Гробницы, найденные в самом городе и которые гораздо древнее львиных ворот, скрывают в себе много драгоценного материала, сходного по происхождению и эпохе, по весьма разнообразного по степени изящества и тонкости отделки. По своей полной и изящной гармоничности, особенной похвалы заслуживают золотые, тонкооттисненные бляшки, служившие для украшения, на которых кроме обычных орнаментов, в виде спиралей, согнутых и змеевидных линий, розеток и звездообразных украшений, встречаются рисунки цветов, каракатиц и бабочек. Между мелкими, круглыми золотыми фигурками особой красотой и тонкостью стиля отличается фигура спящего льва; впрочем ее следует отнести к исключениям.
В общей массе микенских раскопок постоянно повторяется правило, по которому чем выше природа изображаемого, тем неудачнее само изображение. Каракатицы у дались лучше птиц, птицы лучше четвероногих, четвероногие лучше людей. Золотые лицевые маски, закрывавшие когда-то лица умерших, отвратительны по грубости и дубоватости своих форм, хотя в них несомненно видно до крайности точное подражание природе. Тоже самое встречается и на продолговатых досках из известкового камня, найденных во многих могилах и украшенных такими же рельефами. В изображении людей и животных обнаруживается такое полное отсутствие грации и чувства изящества, что остается только удивляться, как неравномерно развиты были в одно и тоже время и в одном и том же стиле различные стороны понимания формы.
Особенной грубостью поражают фигурки из терракоты, на которых человеческие изображения обозначены скорее намеками; прелестны же напротив некоторые разрисованные вазы, а иногда и просто черепки, находимые во множестве. Правда, что орнаменты, особенно те, которые произошли естественным путем, вследствие самой техники металла, как, напр., спирали, сильно были повреждены от переноски их с золотых украшений на вазы и слитком частого их размножения; но и здесь, как и на золотых украшениях, изображения растений и низших форм животных, носят на себя отпечаток свежего, самостоятельного подражания природе; и здесь, как и там, замечается, как эта первобытная свежесть мало по малу уступает место неразумному, чисто внешнему миросозерцанию Микенские вазы представляют собою разрозненные элементы, характеризующие большой и весьма известный отдел ваз так называемого геометрического стиля; здесь особенно ярко выдаются решетчатые треугольники и птицы с отчасти испещренными телами. Но это только отдельные формы, которые не могут изменить настоящего строго определенного характера. Эти Микенские вазы отличаются несомненно от ваз геометрического стиля настолько же, насколько они противоположны произведениям старокоринѳского стиля; во всяком случае они производят впечатление чего-то более первобытного, так сказать чего-то более естественного, чем вся масса вещей геометрического стиля, найденных до сих пор в греческих раскопках; они древнее последних, которые, благодаря слишком изношенным схемам, обнаруживают некоторую неподвижность орнамента. Но геометрический стиль со всеми своими комбинациями линий и точек, с своими водяными птицами, лошадьми и вилообразными человеческими фигурами, в свою очередь, старее стиля старокоринѳского. На вазах этого стиля изображены львы, пантеры, кабаны и фантастические животные, а также и полные орнаменты в виде розеток, заимствованные, по общим отзывам из Азии, тогда как о происхождении геометрического стиля до сей поры еще нет определенного, одногласного мнения. Остановились покуда лишь на том положении, что примитивные элементы в украшениях могут возникать в различных местах независимо друг от друга, при одинаковых условиях обрабатываемого материала и технических приспособлений. Определенную систему этих украшений, которая, как система, могла быть переносима и распространяема, признали за общую древнюю принадлежность всех индогерманских племен.
Наконец установилось еще такое мнение, что и самое азиато-семитическое искусство находилось сначала на ступени геометрической орнаментики, прежде чем оно достигло той зрелой системы розеток и цветов, которыми мы любуемся на памятниках его процветания. По этому положению, геометрический, как и позднее старокоринѳский, стиль ваз должен был быть следствием этой первоначальной семитической системы орнаментики. Как бы то ни было, но теперь делается все более несомненным тот факт, что целый ряд ваз очевидно геометрического стиля, найденный в Греции, есть ни что иное, как ввоз из Финикии, а потом уже основные черты их перешли в греческую фабрикацию, и, войдя в определенные рамки, стали живой системой. Финикийские шкипера привозили сюда драгоценности, вазы и идолов, которые и употреблялись для погребальных торжеств господствующим микенским племенем; в остальных частях Греции они довольствовались сбытом более дешевых товаров. Их же соплеменниками были исполнены работы золотых масок и рельефных досок, хотя последние по-видимому, могли быть изготовляемы только на месте. Вероятно, микенские князья добывали их на ближайших иностранных рынках.
Общему типу этих микенских раскопок предпосылают египетское и ассирийское искусство, но оно невообразимо старо с точки зрения действительно греческого: 1000-1 год до Р. Х. может служить, ему отчасти мерилом, происхождение же лежит гораздо раньше. Микенские древности по времени весьма разнообразны: из ваз к позднейшим принадлежат те, которые могут быть отнесены к геометрическому стилю, а из других микенских памятников позднейшие суть так называемые сокровищницы и львиные ворота.
Так называемые сокровищницы — суть роскошные хранилища мертвых и их сокровищ. Это куполообразные постройки с примитивными сводами, образовавшимися вследствие постепенно выдающихся каменных слоев. К такой куполообразной гробнице ведет проход, обозначаемый замуровленными стенами; в так называемой «сокровищнице Атрея» за куполом, стены которого выложены металлическими досками, найдено особое меньшее отделение, должно быть, самая гробница. Над дверями этих куполообразных построек и также над главными воротами крепости оставлены треугольные отверстия для ослабления дверных створок. В воротах сохранились еще дощечки, прикрывающие эти отверстия с рельефным изображением львов. Канитель полуколонны, найденная в обломках дверных украшений атрейской сокровищницы, имеет также сходство с оригинальной капителью колонны, находящейся между львами: эти формы в усовершенствованной греческой архитектуре более не применялись. Самые львы, для бо́льшего сходства подрисованные, напоминают общей группировкой формы, с давних нор принятые в Азии. В древнейших микенских раскопках они постоянно встречаются в изображениях животных на золотых орнаментах; в области греческого искусства они попадаются на вазах старо-коринѳского стиля. Рельефы над микенскими воротами указывают на положительные успехи искусства не только по сравнению с другими микенскими фигурами зверей, но и по сравнению с совершеннейшими образчиками ассирийского искусства. В ассирийских изображениях людей и животных высокая степень понимания и воспроизведения природы переходит в чисто внешнюю рутинную работу. Довольно того, если мускулы, о которых известно, что они должны быть на данном месте, только намечались на этом месте; а на то обстоятельство, что они более походили на веревки, чем на мускулы, не обращалось никакого внимания. Ни глаз, ни руки не чувствовали потребности в более тонкой отделке линий, в соблюдении верности природе не в целом только, а и в мелких частях. Широкие, полные формы в таких изображениях терялись в умеренных, неодушевленных и пустых. Привычка искусно напрактикованной орнаментики посягала и на органическую жизнь; глаза, уши, мускулы были наброшены произвольно в невполне соответствовавшей схеме, волосы на бороде и голове, шерсть и хвосты животных располагались в правильных завитках на подобие кисточек. В микенских же раскопках поражает свежее непосредственное чувство правильного понимания и живого воспроизведения живой природы: особенно это наблюдается на чисто кошачьих движениях и поворотах львиного тела. К какому бы племени ни принадлежал художник, ваявший из твердого микенского камня, обрисовав сначала на нем контуры и обозначив главные пункты пробуравленными дырочками, — но в этих, серых от старости, памятниках отражается уже нечто из того греческого духа, который, несмотря на технические традиции, никогда не забывал природы, не повторял раз заученных форм, но добросовестно сверял свое произведение с тем, что видел вокруг себя, постепенно переделывая его и улучшая.
Чтобы осилить образцы, взятые из внешнего мира, и поняв их, воспроизвести их попятно и соответственно своему содержанию; чтобы преодолеть материал и его техническую отделку, которые, делая возможным желаемый художественный образ, затрудняют в то же время его воспроизведение и полагают ему преграды, — чтобы преодолеть все это, нужна долгая борьба, и борьба эта стоит в основании истории искусства, и повторяется постоянно в истории его развития, принимая все более и более прекрасные формы. Искание, потеря и нахождение вновь правды и природы не исчерпывает всего содержания истории искусства; но вся его духовная сущность вращается на этом явлении и на его неизменных законах. На греческих островах найдены маленькие, весьма несовершенные, грубо обточенные из мрамора человеческие фигурки: весьма возможно, что это произведения греческие, хотя они и не кажутся таковыми.
Но как бы ни были преждевременны опыты первых греков, не умеющих еще обращаться с резцом и ножом для подражательного искусства, гений греческого художества, поднявший их так высоко, пробудился и окреп под руководством и в подражании культуры древнейших народов. Задолго до детских опытов первого греческого резчика, задолго до постройки первого греческого храма, уже существовало и считалось вполне законченным и даже устарелым искусство египетское. В своей борьбе с изображаемой природой тамошние великие художники сумели подчинить ее строгой системе пропорции и рассудка; огромные постройки фараонов созидались по испытанным правилам, заключавшим в себе и допускавшим бесконечное разнообразие форм и украшений. Рядом с искусством египетским стояло избегнувшее его влияния и замкнутое в себе самом искусство вавилоно-ассирийское, сфера влияния которого простиралась до западных берегов малой Азии. Щит Ахиллов у Гомера есть чудесное произведение бога, и при описании его изображения было трудно удержать в памяти разнообразные сцены, воспроизведенные на бронзе искусным Гефестом, не говоря уже о том, чтобы подчинить их какому-нибудь соответственному идеальному представлению. Но действительные произведения искусства, в которых поэзия почерпнула вдохновение для своих образов — негреческого происхождения. Отдельные предметы в сценах на щите могут быть отчасти сравниваемы с предметами, изображенными на египетских и ассирийских памятниках, а отчасти и на металлических вазах, привозимых по Средиземному морю финикийскими кораблями со своей далекой родины. Серебрянный с золотыми краями кубок Менелая есть творение Гефеста, но подарок Сидонского царя Федима; серебрянную кружку, предложенную в виде награды Ахиллом набегах в запуски, делали искусные сидонцы, а привезли из-за моря финикийцы, Пестрые одежды Гекубы были сделаны руками сидонских женщин и привезены Парисом из Сидона. Из Кипра вывезен панцирь Агамемнона, из Египта треножники, серебрянные лохани, золотое веретено и самопрялка Менелая и Елены.
Зарождающееся греческое искусство, вслед за своим самостоятельным возникновением, стало заимствовать от уже существующих искусств не только технику и инструменты, приемы и приспособления, но также и утверждавшиеся формы и типы, известные привычки в изображении, распределение, а нередко даже и самое содержание изображаемого. Легче всего проследить это наручных украшениях утвари и на форме и рисунках древних ваз. Даже и в тех случаях, где вид заимствования утверждается неопределенно, несомненны: самый факт заимствования, возбуждение искусства под влиянием иностранных образцов и развитие отростков, перенесенных с чужой почвы. По-видимому, греческая архитектура развилась по собственной, резко обозначающейся системе, а между тем эти твердые, гармоничные законы искусства, в сфере которых творил гений отдельных великих строителей, возникли не только ощупью, постепенными попытками и разысканиями. Древнему Египту принадлежит мысль колонны с базисом и капителью, сюда же относится и утолщение и уменьшение колонны, дополнительное к ней приспособление растительных форм, а также и система продольных каналообразных разрезов на столбах и колоннах.
Формы, в которых нельзя не признать элементов ионической капители, встречаются не только в египетской и ассирийской орнаментике, но и в ассирийских колоннах. Широкое распространение· всех этих отдельных составных частей, общее знакомство с ними во времена возникновения греческого искусства доказывают финикийские и персидские памятники. Но из всего ограниченного количества художественных форм, известного грекам, они тщательно выбрали лишь то, что годилось для преобразования в их духе. В неисчерпаемой фантастической массе египетских образцов канители нашлись только две главные формы, дослужившие темой, разработкой которой занялись греки. Они заимствовали не все и не в целом: отжившее они отбросили, а росткам, способным к жизни, придали неслыханно- прекрасное развитие. Дорические и ионические портики не имеют непосредственным образцом колонны догреческих народов, также как и общего типа греческого храма. Но все же достойная удивления архитектура их есть не одиночное изобретение одного строго последовательного ума, который производит формы из самой конструкции постройки, а символы и орнаменты для своих строительных целей заимствует впервые из природы. Основные зодческие элементы уже с самого начала перешли готовыми, и только в их развитии высказалась вполне творческая сила греческого гения; а возникновение их из природы и развитие из ремесл относится к догреческой эпохе. Старые формы ни в одной своей области не заключали бурного импульса и свежей здоровой жизни юношески-свежего греческого народа с их миром богов и мифов, с их способностью создавать живые образы и с их чувством понимания прекрасного.
2. Архаическое искусство.
Греция, как нация, достигла своего высшего значения и полной самостоятельности в одно время с персами, с которыми впоследствии ей суждено было помериться. Греческое искусство стало процветать впервые при дворе греческих тираннов, а это относится приблизительно к эпохе процветания лидийского царства. Местом происхождения греческих художеств, слава о которых дошла до вашего времени, были острова: Крит Самос, Хиос, Наксос, в связи с которыми находился и Парос.
Из архитектурных произведений впервые прославились: Гедеон ва Самосе и Артемисион в Ефесе. Самос считается родиной металлических изделий и архитектуры. Хиос и Наксос родиной мраморной скульптуры. Живопись ведет свое происхождение из Крита·, оттуда же вышли и лучшие строители. В Хиосе прославились четыре поколения скульпторов: Милас, его сын Миккиад, его внук Архерм и сыновья последнего: Вупал и Афений (ок. 540 г. до Р. Х.).
Во время успешных раскопок, предпринятых французами на Делосе и Самосе, сделаны недавно интересные открытия, бросающие совершенно новый свет на деятельность старых скульптурных школ на островах. К древнейшим раскопкам принадлежит пожертвованная одной накеиянкой (жит. Наксоса) в храм Артемиды на Делосе, очень старая, к сожалению не совсем хорошо сохранившаяся, статуя одетой женщины. Её плоская форма невольно напоминает греческое выражение «доска которым обозначались в древности примитивные изображения идолов. Но несмотря на всю простоту и безыскусственность этой статуи, в ней что-то такое самостоятельное, чисто-греческое, что бросается в глаза с первого же взгляда: ее приписывают VII веку до Р. Хр. По некоторым внешним особенностям она слегка напоминает египетские фигуры. Другая же, тоже одетая, но более Округленная женская статуя, найденная на Самосе, представляет скорее некоторое сходство с ассирийскими произведениями, хотя в общем все формы ее тоньше и прочувствованнее ассирийских: на ней тоже отражается влияние греческого духа. Но самое важное открытие представляет найденная на Делосе статуя бегущей женщины с крыльями на плечах и за спиною, с ласковым выражением на лице и с украшением на лбу — должно быть, Ника — победительница. Вся фигура рассчитана на передний вид: лицо и верхняя часть туловища обращены к зрителю, меж тем как бегущие ноги видны в профиль. Вследствие быстрого бега левая рука угловатым движением закинута на левое бедро; в правой руке богиня верно держала венок — символ победы. По выразительности движений, по определенно-обозначенному абрису худощавого тела и одежды, видно изящество и до некоторой степени художественное развитие греческого духа. Но и здесь можно заключить, что общая схема бегущей женщины есть до некоторой степени переделка рельефов и орнаментов в круглую скульптуру; значит, передача живых движений человеческого тела заимствовалась у барельефов и орнаментов в то время, когда уже существовала и даже достигла некоторого совершенства отвлеченная пластика в изображении головы и спокойно стоящего тела, доказательством чего служит самая «Ника». В старинных литературных преданиях упоминается, что Ника изображалась крылатой только хиосским скульптором Архермом: значит, в данном случае мы имеем образчик его Ники. Надо предполагать, что эта статуя происходит из Делоса, и весьма вероятно, что в ней мы обладаем произведением самого Архерма, ибо невдалеке, от неё найден соответствующий постамент с именами знаменитых хиосских художников Миккиада и Архерма.
Из всех, найденных до сих пор произведений древности, нельзя достоверно указать ни одного, которое можно было бы приписать критским скульпторам Скиллиду и Дипину, замечательным уже тем, что они пересадили искусство в Пелопонес. Из их учеников стали известны некоторые в Спарте, затем Тектей и Ангелион, создавшие Аполлона, несущего на руках Харит. Их учеником называют Эгинского художника Каллона.
Есть целый ряд оригинальных древних фигур обнаженных юношей, прототипом для которых может послужить так называемый Аполлон Тенейский в Мюнхене. В общей схеме они согласуются с древнейшим типом Аполлона, который изображался прежде или совершенно таким, или несколько схожим; но отчасти в этих статуях должно предположить и человеческие фигуры юношей, применяемые для могильных памятников. В них видны иногда более, иногда менее развитые формы, и разница эта происходит не только вследствие различия в стиле и времени, но и вследствие локальных особенностей; общий же характер преобладает, и его следует приписать древним критским скульптурным школам.
В Пелопонес-же переселился и Вафикл из Магнезии — города в Ионийской области — Карий, лежащей против Самоса, но время его жизни и деятельности точно не известно. Он создал художественно изукрашенное сиденье для старинной статуи Аполлона, на котором изображены были сцены из жизни богов и героев. Конечно, в этом случае Вафикл придерживался художественных преданий и обычаев своей страны, так что, при рассмотрении всего, им изображенного в этих сценах, перед нами являются как бы выдержки того мифологического материала, которым располагало старо-ионийское искусство. Зато к местному, старо-пелопонесскому искусству относится богато украшенный мифологическими же сценами ящик, или гробница — пожертвование коринѳской династии Кипселидов в храм Гереон в Олимпии. Ящик этот относится к VII стол. до Р. Хр.
Из Коринѳа и Халкиды на Евбее, которые рано начали вывозить свои вазы заграницу, заимствовали образцы для своих раскрашенных ваз аттические гончары, и вскоре стали тоже вывозить их главным образом в Этрурию, где они стали победоносно конкурировать с своими учителями. Около 500 года до Р. Хр. они изобрели новый способ раскрашиванья ваз, а именно: черные фигуры заменили красными и, совершенствуя постепенно этот способ, ста ли наводнять этим товаром все доступные им рынки. Это изобретение служит победоносным моментом выступления на сцену аѳинского искусства: до сих пор Аѳины не имели самостоятельного движения искусства, а заимствовались скорее у других народов. Из иностранных скульпторов наибольшее влияние на Аѳины оказывали художники из единоплеменного им Пароса: все древние скульптуры, найденные в Аѳинах, сделаны из паросского мрамора, а уже гораздо позднее паросские художники играли в Аѳинах ту же роль, какую теперь играют карарцы в Риме. Вообще, надо предполагать, в ту пору художники часто перекочевывали с места наместо. Алксинор из Наксоса работал в Беотии, Аристион из Пароса в Аѳинах. От Ендия, работавшего, судя по одной сохранившейся рукописи, надгробную статую умершей в Аѳинах ионянки, встречаются произведения и в Ефесе, и в Еретрии в малой Азии, и в Тегее в Аркадии. Мирон и Фидий обучались одно время в аргосской школе; надо думать, что и их старшие соплеменники ездили учиться в чужие страны. Из сохранившихся старо-аттических могильных памятников с изображениями умерших особенно поучительны два — Лисея и Аристиона. Первое — Лисея только раскрашено, меж тем как изображение Аристиона представляет раскрашенную плоскую рельефную работу. Лисей изображен в спокойной торжественной позе, как и подобает жрецу при возлиятельной жертве; в левой руке он держит люстрационную ветку, в правой кубок. Аристион представлен в доблестном украшении своего боевого вооружения с копьем в руке, в шлеме, панцире и поножах. На памятнике Лисея, под главной фигурой его в человеческий рост, находится другая маленькая, изображающая всадника, левой рукой держащего свободного подручного коня, — должно быть воспоминание о победе, одержанной покойным на ристалище. На памятнике Аристиона, на соответственном месте оставлено пустое пространство; верно, и здесь прежде находилось такое же изображение. В то время живопись и скульптура не исключали друг друга, но, как мы это видим на портрете Аристиона, краска служила необходимым дополнением всякой скульптурной работы; творец этого памятника, искусный Аристокл, вероятно, столько же был горд раскраской фигуры, сколько и её подкладкой. Оба эти творения относятся к VI ст. до Г. Хр., ко времени изгнания Пизистратидов· В эту эпоху, т. е. в 510 году, известнейшим художником в Аѳинах считался Антинор, ибо ему были поручены бронзовые изваяния обоих убийц тиранна, т.с. убийц Гиппарха, прославленных друзей Гармодия и Аристогитона. Памятник этот был поставлен на. самом видном месте аѳинского рынка. Когда Ксеркс овладел Аѳинами, он велел убрать и увезти в Персию этот провозвестник аѳинской свободы, откуда его возвратили обратно только при Александре, или одном из его последователей, Но греки скоро заменили похищенную Ксерксом группу другою, сделанною руками двух художников, Крития и Нисиота. Вероятно, эта новая группа, по возможности, должна была походить на первую; но различным воспоминаниям и подражаниям — между которыми встречаются и статуи — удалось теперь воспроизвести её общую композицию. Нападающие равномерным движением бросаются вперед: младший, Гармодий, несколько быстрее, размахнув высокоподнятой рукою с мечем для удара, между тем как старший, Аристогитон, придерживая левой рукою ножны, в правой держит меч наготове для удара поражения, или отпора. Выражение сильного движения и усилия придано несвободному, связанному положению и устарелым жестким формам; общая группировка фигур только кажется строго замкнутой. Но энергия, с которой художник вдумался в момент и положение дела, живость и осязательность движения, правдивость в воспроизведении обнаженных фигур, определенность, с которой он выразил то, что ему самому казалось выдающимся и значительным в форме и движении, — все это до сих пор бросается в глаза в мраморных подражаниях. Однако, несмотря на всю верность этих подражаний копирующих художников, по их произведениям нельзя произнести вполне верного суждения о стиле Антинора, Крития или Нисиота.
Совсем другим характером, чем этот замечательный памятник древне-аѳинской скульптуры, отличается искусство соседнего Аѳинам, но враждебного им, дорического острова Этны, которого самостоятельное значение было уничтожено Аѳинами в 458 г. Там тоже искусство достигло высокой степени развития, примером чего служат известные оригинальные фигуры на фронтонах храма Паллады, составляющие теперь драгоценнейшую принадлежность мюнхенской глиптотеки. На обоих фронтонах была изображена борьба эгинских героев с троянцами: на западном Аякс и Тевкр вместе с другими героями сторожат труп Ахилла, на восточном Теламон в сообществе с Гераклом, и Аѳина, помогающая отцам и сыновьям. В главных чертах оба произведения соответствуют друг другу; они, подымаясь от углов фронтона к его середине, не оставляют между собой пустых, ничего не говорящих промежутков, и заполняют его всего изображением самой разнообразной борьбы настолько, насколько это допускает ясность барельефа и типичность в выражении темы борьбы двух партий за тело убитого. По нахождении их (в 1811 г.), эти эгинские барельефы оказались неразрешимой загадкой для знатоков того времени: по тогдашним понятиям о греческом искусстве, они казались совсем не греческими. Знатоков приводили в изумление странностью и несовершенством в воспроизведении природы эти длинноногие фигуры с короткими туловищами и одеревенело-улыбающимися лицами. Но со времени открытия новых греческих древностей, эгинеты перестали казаться совсем обособленным, одиночным явлением; наблюдательность постепенно обострилась, и теперь, несмотря на кажущееся однообразие, легко определяется разница между богами и людьми, победителями и побежденными, неранеными и умирающими. Знаменитая, непонимаемая прежде эгинская улыбка есть ни что иное, как попытка выразить жизнь, движение и ощущение. Это замечается и здесь и на других древних скульптурных изображениях, где оно применяется на различных фигурах и с различными намерениями. Напр., на восточном фронтоне такая улыбка придана раненому воину с целью усилить впечатление. Вообще, восточный фронтон, несмотря на свое случайное или намеренное сходство с западным, принадлежит несколько более молодой ступени в развитии искусства. Вероятно, эта разница произошла вследствие различия во времени постройки, так как быстрому окончанию больших построек в Греции часто мешали политические события и другие случайности этого рода. Фронтонные фигуры соответствуют приблизительно времени персидских войн. Может быть, что один фронтон был окончен около 480 года, другой несколько позже, хотя непосредственно вслед за первым; во всяком случае оба фронтона были воздвигнуты никак не позже следующего -двадцатилетия, ибо эгинская школа никогда не поднималась выше той зрелости и оконченности архаического стиля, которыми отличаются оба фронтона. С помощью этих фронтонных фигур мы должны составить и общее представление об искусстве знаменитейшего эгинского художника Оната.
Другой вид дорического искусства можно назвать Мегарским, и примером его могут послужить фронтонные барельефы мегарской сокровищницы в Олимпии и метонные барельефы храма F в Селинунте. Те и другие относятся к концу VI столетия до Р. Хр., и воспроизводят одинаково борьбу гигантов, изображение силы и смелости, опасность и тесноту боя, падение и чувство мучительной и острой боли побежденных с той беспощадной осязательностью, которая проявляется всегда с преувеличенной силой там, где человек только что осилил и начал господствовать над средствами для выражения своих мыслей. Но как старейшие метопы в Селинунте, которые представляют более раннюю ступень в развитии искусства, и которых нельзя себе представить не в связи с рельефами храма F, так и Гереонские метопы суть отчасти отзвуки первобытной беспощадной дикости, а отчасти обладают спокойной наивной прелестью, которая иногда кажется даже вульгарной. Это показывает, что направление и развитие так называемого «мегарского стиля» разбрасывалось в разные стороны и системы, границы которых остались неуловимыми до сих нор. Впрочем, если мы будем руководствоваться фронтонными барельефами Мегары, гигантами храма F, или позднейшими селинунтскими метонами, то получим довольно ясное представление о регийском художнике Пиѳагоре, работавшем в I -й половине V столетия и создавшем целый ряд победных статуй в Олимпии. Чтобы уразуметь вполне его статую «хромого Филоктета», при взгляде на которую, кажется, сам страдаешь его муками, или его группу убивающих друг друга братьев Полиника и Етеокла, надо рассматривать их в связи с предыдущим.
К последнему периоду в развитии архаического искусства принадлежат метопы и обе фронтонные группы, составляющие пластические украшения храма Зевса в Олимпии. По собственному ли недоразумению или по ложному перетолкованию, только Павсания приписывает их одновременно и ученику Фидия Алкамену и позднейшему скульптору Пэонию. С древнейших уже времен Олимпия была местом пожертвований со всех сторон. Это был как бы сборный пункт произведений всех не только эллинских, но и иностранных школ и художников, которые приходили сюда, чтобы на месте исполнять заказанные им работы. Но туземной школы самостоятельного характера там не было. Вскоре после персидских войн, когда эллинское искусство достигло высшей степени своего развития, илейцы задумали воздвигнуть блестящий храм своему Зевсу. Из туземных архитекторов постройку мог вести только один Ливон, а между тем, храм и все, что в нем находилось, были окончены лишь в несколько десятилетий (приблизит. от 470 до 448). Надо предполагать, что здесь не обошлось без помощи иностранных зодчих и работников; тоже самое можно сказать и о скульптурных работах. Предполагается, что существовала северно-греческая школа искусства; недалеко была также и аргивская школа Агелада, а при таком соседстве следует думать, что как художники, так и работники могли, переходить в Илиду. Но Олимпия лежала к западу, и с запада же, из Сицилии и Великой Греции, приходили сюда самые блестящие бойцы для состязаний, принося с собою великолепные дары для посвящения богам. Скульптуры храма Зевса напоминают более всего скульптуры Селинунтской и западной школ; вероятно, на этом впоследствии будет основана определенная система. В полном своем составе эти скульптуры представляют богатую, разнообразную, но несколько оригинальную картину : разнообразие это производило бы еще большее впечатление, если бы мы могли видеть его в первоначальной своей пестро- раскрашенной форме. Ибо общее исполнение понятно только в том случае, когда удается представить себе уничтожившуюся теперь раскраску. Оба треугольные фронтона так наполнены фигурами, что средняя фигура всегда оказывается поставленной совершенно прямо;, только на восточном фронтоне, где изображены приготовления к ристанию Эномая и Пелопса, около средней фигуры поставлены еще две такие же прямые, а далее идут уже две спокойно стоящие четверки в упряже, окруженные сидящими на земле и коленопреклоненными людьми, тогда как на западном фронтоне, напротив, уже средняя фигура окружена дико двигающимися группами кентавров, порывистость движений которых увеличивается по мере приближения к углам, где наконец последние изображены падающими навзничь, а угол образуется фигурой, уже лежащей. Один фронтон наполнен фигурами, изображенными по большей части однообразно и принужденно, другой — со всеми признаками дикой первобытной гениальности, которая энергией и силой своих движений обнаруживает что-то в роде энтузиазма к животной жизни и случайной естественности. В первом проявляется неопытность и замешательство, во втором необузданность архаического искусства. Но все же это не два различные, противоположные произведения, а скорее две различные стороны одного и того же: при каждом новом сравнении мотивов, типов и работы обнаруживается снова близкое родство между ними: разделить их невозможно. Метопы, которые, судя по ходу постройки, хотя и должны быть древнее фронтонов, имеют с последними так много общего в стиле, что их следует причислить к одной и той же школе, несмотря на некоторые оригинальные нюансы, которые в них встречаются. Так напр., в метопе Атласа, на которой, среди общей обстановки, положительно выделяется топкостью отделки фигура Геракла, на этой метопе голова Геспериды удивительно напоминает общий тип головы нимфы в метопе Стимфалид, а расположения её одежды соответствуют общепринятому, несколько пустому и до утомления часто повторяющемуся мотиву. Уже потому, с какою легкостью гесперида поддерживает подушку, которая должна облегчать Гераклу тяжесть неба, мн имеем право заключить, что в этом произведении отражаются отдельные черты того наивного, народно-веселого миросозерцания, которым проникнуты все изображения приключений Атласа с Гераклом. Это та самая несколько вульгарная веселость, которая с грубой реальностью отражается в старинных селинунтских метопах Геркулеса с Керкопами, и как луч проскальзывает в -позднейших селинунтских метопах Зевса и Геры на Иде. Дикая же мощь западного фронтона напоминает скорее метопу Геркулеса, где он усмиряет дико рвущегося за ним быка.
Но для главного скульптурного произведения в Зевсовом храме, для статуи самого Зевса, к которому приступили уже по окончании общей постройки, илийцы обратились к аѳинскому художнику — Фидию.
3. Фидий и его современники.
Когда, благодаря персидским войнам и гегемонии, Аѳины возвысились над родственными им греческими племенами, то, как свои, так и чужестранные художники стали находить в них самый гостеприимный приют и обширную деятельность. Особенно посчастливилось им, когда город Фисея сделался главою аттико-делийского союза, приобрел нрава на острова и отдаленные берега малой Азии до Ликии на юге, до Трапезунта, Византии и Фракии на севере; тогда стало прибывать его богатство и могущество, и со всех сторон стекались таланты. Великие задачи, поставленные целью союза, были широко поняты и разрешены блистательно его главою. Предание, по которому рождение Еврипида, празднование победы Софоклом и сражение Эсхила при Саламине изображены одновременными событиями, имеет свою долю символической правды. Смелое и решительное пожертвование собственным существованием не только доставило господство и победу аѳинским гражданам, но еще послужило примером и вдохновением для тех, которые впоследствии придали великую славу Аѳинам Перикла и преобладание их над другими; аѳиняне, детьми или юношами, были свидетелями той великой эпохи, когда отцы их сражались на жизнь ина смерть. Рождение Фидия совпадает с Мараѳонской битвой или несколько ранее. Его отца звали Хармидом, а его учителями называют аѳинского скульптора Игию и главу аргивской школы Агелада. Между современными ему художниками в Аѳинах чаще всего называют живописца Полигнота и ваятелей Каламида и Мирона, но они были старше Фидия, особенно Полигнот. Последний пришел в Аѳины с острова Фасоса и происходил из семейства живописцев. Это был гордый человек, презиравший плату за свои картины, но награжденный в Дельфах большими почестями, а в Аѳинах правом гражданства. Он прославился своими фрескоподобными стенными картинами в одной галерее в Делфах. Сюжетом этих картин автору дослужили «Разрушение Трои» и «Подземный мир». В разрушении Трои средину картины занимает суд греческих героев над преступлением Аякса против Кассандры. Кассандра сидит на земле, обняла руками изображение Аѳины и как бы скрываясь под её защиту; преступник произносит клятву; Агамемнон, Менелай, Одиссей, Акамант, Полипит, сын Пирифоя, окружают эту сцену. Сзади возвышается Троянский акрополь, а над стеной акрополя выдается голова, деревяного коня. Создатель его, Эней разбрасывает камни разрушенной стены. Направо и налево виднеются следы дикого разрушения. Усталый Нестор уже собирается в дорогу, а неистовый Нептолем все еще свирепствует, убивая направо и налево. Кругом лежат убитые и раненые; некоторые трупы уносятся. Женщины и дети ищут убежища у алтарей, пленные троянка жалобно плачут; между ними же находится Андромаха с ребенком на груди, и дочери Приама: Медесикаста и Поликсена. Приам и Агинор сидят в полном отчаянии; Елена же, напротив, гордая княгиня: окружена рабынями, и ее умоляет Демофон, сын Фисея, освободить из рабства бабку его, Эфру; прекрасные рабыни Бризеида и Диомеда с восхищением взирают на Елену, роковая красота которой раздула войну. Картина, с одной стороны, замыкается сценой переселения Антенора из разоренной родины; дом его для отличия увешан шкурами пантер, ибо он единственный из троянцев, который был пощажен. На другой стороне картины изображена соответствующая сцена: снятие палатки Менелая и все приготовления к его отплытию, — с одной стороны земля, с другой море, доходящее до середины картины.
В сценах подземного мира изображен заросший тростником Ахерон с челном Харона и многострадальный Одиссей, спустившийся в своих странствованиях до самого ада и беседующий с тенями умерших. Он сидит на корточках и держит меч надо рвом, к которому с другой стороны подходит тень Тирезия; за ним видна сидящая тень Одиссеевой матери, Антиклеи. Подземный мир наполнен тенями знаменитых героев и грешников: Тития, Тантала, Сизифа, Агамемнона, Патрокла, Ахилла и друг. Демон ужаса сидит, оскалив зубы, на коже коршуна, и всей фигурой своей темно-синего цвета с безжалостной ясностью напоминает о всех ужасах отвержения. Известным фигурам Тантала и других живописец придал символ самых ужасных грехов — непочтения к родителям, кощунства и колдовства. Презирающие мистерии трудятся без успеха, ибо им не помогает Клеовея, жрица Димитры. Но в греческих представлениях о загробной жизни обеты мистериям не играли большой роли. В картине Полигнота не указано разницы между добром и злом. Что случалось с душами на поверхности земли и составляло их характер, то и остается с ними в преисподней. Парис смотрит на женщин, Тамарис слеп и лютня его разбита, а Актеон, который был растерзан собаками, сидит вместе с Автоноей, как и при жизни; Марсий, так жестоко наказанный Аполлоном, учит играть на флейте маленького Олимпоса. Ерифила изображена с тем же ожерельем, которое она. приобрела ценой постыдной измены, но наказания не терпит никакого. Ферсит играет с героями в кости, а невинные дочери Пандарея забавляются игрой в астрагалы. Самые славные герои не нашли здесь блаженства за свои подвиги. Счастье и несчастье, преступление и добродетель подлежат одним и тем же законам подземного мира; примирение свершилось, но не подало ни радости, ни надежды.
«Лучше хотел бы я в поле, как жалкий наемник, работать,
Чем над исчезнувших мертвой толпою господствовать жалкой.
Так говорит Ахилл Одиссею, а другой греческой саги, как история Адмета и Алкесты, нет в преданиях. Темами для этих больших, полных художественного смысла произведений Полигноту послужили отчасти эпические сказания, отчасти народные представления и даже народные шутки и остроты, отчасти же наконец вся сумма существовавших до него художественных типов и произведений; но, творя самостоятельно, он дал нам новый материал, оживленный и восполненный им образами его личного высокого гения. В его картинах отражаются такие возвышенные черты, что Аристотель желал, чтобы вся подрастающая молодежь могла их видеть и оценить. Технические средства, при помощи которых Полигнот достиг таких высоких результатов, были так ограничены, что в римские времена смеялись над теми, кто восхищался его картинами, называя это кокетством знатоков. Он был единственный из позднее прославившихся художников, у которого тело человеческое изображено как бы просвечивающимся сквозь обрисовывающие его одежды, и который отличался другими особенностями чисто классического искусства; и многие наивно предполагали, что эти особенности придуманы Полигнотом и суть результаты достигнутых им одним успехов. Его личным успехом в этом направлении следует признать скорее то обстоятельство, что, избежав общего схематического изображения одежд, он придал им свободное выразительное движение. В Аѳинах Полигнот писал в «Stoa Poikile», построенной Писианактом, одним из зятьев Кимона. Потом он писал в анакионе, кажется также в храме Фисея, а позднее, кажется, некоторые из его картин встречались в пинакотеке Пропилей. Вскоре, впрочем, его соперником но популярности в Аѳинах сделался Микон, хотя Полигнот мог скорее назваться его учителем и старшим товарищем. Микон занимался также и ваянием; его же кисти принадлежат картины, изображающие борьбу Аѳины с амазонками и другие подвиги Фисея; он же сообща с Паненом написал «Мараѳонскую битву » на которой находятся портреты Милтиада, Каллимаха и Кинегира.
О происхождении скульптора Каламида ничего не известно. Он прославился за превосходные изображения лошадей и за тонкую прелесть в отделке одежд, в которых он, подобно Полигноту, достиг известной подвижности и свободы, и наконец за сдержанную наивную ласковость и лукавую усмешку на лицах его статуй. Он, по-видимому, принадлежал к числу тех художников, которые любят придавать создаваемым ими образам новую жизнь и топкое милое чувство. К сожалению, между всеми найденными памятниками нельзя указать ни на один, по которому можно было бы составить верное заключение о его искусстве. Мирон из Елевеер, на границах Аттики с Беотией, известен как смелый новатор, в произведениях которого чувствуется мощное веяние нового времени.
В ссылках часто с именем Мирона в связи имя Пиѳагора. Оба любили сильное живое движение мотивов и свободно распоряжались достигнутыми ими средствами, разрывавшими старые оковы. Пиѳагора хвалят за то, что он впервые обратил внимание на старательное изображение волос, тогда как Мирон не избежал в этом случае общей рутины. Зато Пиѳагор был новичком в том, в чем Мирон достиг уже полного совершенства — в ритмичности и симметрии движущихся фигур, в горделивой и гармонической плавности, которую аттический мастер придал даже самым смелым порывистым движениям. Гениальность Мирона не ограничивается, конечно, этим рядом мотивов; умением схватывать и воспроизвести явления, совершившиеся в самый короткий момент, он отличается от других художников, и это бесспорно составляет его главную прелесть. Его согнувшийся метатель — „ Дискоболов» действительно несется, как стрела, пущенная из натянутого лука; Марсий, у которого внезапно появившаяся Аѳина выбивает из рук флейту, еще шатается под влиянием своей веселой пляски; на губах бегущего к цели Лада замерло, кажется, последнее дыхание; Персей бегом догоняет Медузу; на бронзовой группе в аѳинском акрополе Ерехѳей кажется действительно размахнувшимся, чтобы ударить Иммарада, О самом популярном произведении Мирона в последнее время, о знаменитой корове, которой так интересовался Гете, до сих пор еще нельзя составить полного понятия.
Такой художник, как Фидий, должен был рано начать удивлять всех образчиками своего гения. Говорят, что все, что исходило из его рук, являлось уже оконченным и чудесным, был ли это мрамор или бронза, творил ли он образы богов и героев или лепил пчел, мух и кузнечиков. Уже во время правления Кимона ему поручались большие работы. Его резцу принадлежит исполинская Аѳина-Промахос, которая высоко возвышалась над акрополем, как бы возвещая победу над Персами, и тринадцать медных фигур, пожертвованных Аѳинами, в виде десятины, из Мараѳонской добычи Дельфийскому храму. Здесь изображен был победоносный аѳинский предводитель Милтиад, окруженный Аѳиной и Аполлоном, даровавшими ему победу, и аттическими главными героями, защищавшими свое отечество. До сих пор сохранившийся храм Фисея обязан своим основанием торжественному перенесению останков Фисея из Скироса в Аѳины, предпринятому Кимоном с целью поднятия аѳинского патриотизма и значения Аѳин. В храме выражается оригинальная красота аттико-дорической архитектуры, совершеннейшим образчиком которой служит Парѳенон. Но, в противоположность совершенству Парѳенона, в храме указывают обыкновенно на следы некоторой дисгармонии; в архитектурных формах, равно как и в расположении фресок, в разнообразии украшений метоп и в новых сюжетах видны как бы попытки и опыты в создании. Внутри храма находились картины Полигнота и Микона, изображавшие подвиги Фисея; в скульптурных метопах с изображением подвигов Геркулеса и Фисея предполагают стиль Мирона. Скульптурные же фрески не являют ничего подобного: они сильно напоминают скульптуры Парѳенона, хотя принужденнее, ненатуральнее последних и далеко не достигают свободного развития фидиевого стиля. В этих фресках предполагают юношеское произведение Фидия, а расположение их объясняют его желанием испробовать свои силы на храме, украшенном внутри великими художниками.
Уже сделавшись знаменитым, Фидий был призван в Олимпию, где он с помощью одного из своих учеников создал своего Зевса — произведение, пользовавшееся великой славой уже в древности и не имевшее соперников ни в одном из произведений других художников. Статуя эта, имевшая такие размеры, что, казалось, едва помещалась в высоком и просторном храме, была мастерски исполнена из золота и слоновой кости, материалов, которые так охотно употреблялись греческими художниками. Она изображала бога сидящим на троне. В правой руке у него богиня победы, в левой скипетр, увенчанный орлом. Одежда, покрывающая все тело, грудь и руки, испещрена лилиями и фигурами. Трон, подножная скамья, постамент и перила украшены были бесчисленным множеством мифологических сцен и образов скульптурных, барельефных и живописных; у подножья трона танцующая богиня победы; скамья поддерживалась львами. Ѳиванские юноши, приносимые в жертву сфинксу, гибель Ниобид, подвиги и борьба героев, подобных Геркулесу и Фисею, — все это должно было напоминать зрителю о наказании и милости, исходящих от властителя богов и людей. Наглядное воспроизведение этих мифов, почерпнувших свою форму от поэтических и пластических художеств, было уже само по себе как бы жертвоприношением божеству и восхвалением его могущества. Голова фидиева Зевса не имела тех страстных мощных форм с львиным лбом и поднимающимися дыбом волосами, которые прежде переносились на него с «Зевса в Отриколи», и которые до сих пор приписываются ему консерваторами в науке. Голова имела крутой, так наз. греческий профиль, вообще присущий аттической школе. Волоса не подымались кверху: они падали густыми мягкими волнами, обрамляя лоб и лицо и ясно отделяясь от роскошной и мягкой бороды. Голова была увенчана золотым венком из масличных листьев. Выражение было величественное, царственное, но в то же время кроткое и милостивое; таким изображали его поэты, которые неисчерпаемы в похвалах этому произведению. Внизу Фидий поместил свою подпись, которая читалась много лет спустя; его потомки пользовалась во все времена большими почестями в Илиде.
По окончании Зевса, Фидия ожидало уже новое великое произведение в его родном городе — Аѳинах. Перикл стоял тогда на высоте своего могущества. Уже 6 лет прошло с тех пор, как аттико-делийская союзная казна перешла из-под покровительства делийского Аполлона в сокровищницу аѳинской богини. Но не возвышалось еще знаменитого храма, долженствовавшего вместить в себе вместе с союзной казной самое блестящее и драгоценное изображение Паллады, воздвигнутое отчасти на средства этой самой казны. Греки, жившие в малой Азии и на островах, всегда смотрели с восхищением и завистью на неисчерпаемые массы золота, восточный блеск и богатство персидских монархов· Эта приманка должна была уничтожиться и пересилиться Аѳинами, но более благородным способом. Национальное преимущество перед варварами, слабо сознаваемое греками до персидских войн, проснулось и окрепло в этой борьбе, к всячески поддерживалось и усиливалось аѳинскими государственными людьми. Но они решились привлекать всеобщее удивление и порабощать таким образом массы не богатством, а совершенными формами прекрасного искусства, для которых пригоден был самый драгоценный материал. Акрополь с своими храмами и статуями и сами Аѳины должны были доказывать и другу и врагу, что во всех отношениях они могли назваться главою эллинов и оком Эллады. «В то время», говорит Плутарх, «как вырастали творения, необыкновенные по своей величине, неподражаемые по своей прелести и красоте, ибо художники наперерыв старались облагородить и усовершенствовать свое искусство, в это время удивляешься прежде всего и более всего той быстроте, с которой они создавались. Творение, о котором можно было думать, что на него пошло несколько человеческих жизней, было окончено во время управления одного человека. Красота их была признана всеми по их возникновении, а их действие свежо и ново и поныне! От них веет юношеской свежестью, которая сохранилась в них на долгое время; в них как будто жило, вечная дута, не подверженная влиянию старости. Но как много ни было в то время великих художников, все же первый между ними был Фидий. Парѳенон, послуживший блестящим возобновлением старого храма, стоявшего на том .же месте, был начат в 447 г. до РХ. покончен в 434. Его архитекторами были Калликрат и Иктин. Пластические украшения храма и метопы отчасти веют прелестью старины, отчасти же носят на себе печать фидиевой гениальности. В изучении фресок, окружающих «cella» в виде узкой ленты, и фронтонных украшений, в которых мы так чувствительно ощущаем все недостающее, художники всех времен, возрастов и способностей найдут себе лучшие образцы, усвоят лучшую школу, если пожелают посвятить им свое искусство. Великий художник должен был неутомимо творить и изобретать как общее, так и частности, сам чертил и давал модели, надсматривал, поощрял и взыскивал.
Самой трудной работой была установка главной фигуры храма — колоссальной статуи Аѳины-Парѳенос; сделанной из золота и слоновой кости. В вышину она была 36 футов, т. е. настолько высока, что с трудом помещалась в отведенном для неё пространстве, — ни одного кусочка слоновой кости не сохранилось от этой статуи до вашего времени! Но постепенно, при тщательном собирании описаний, подходящих воспоминаний и ссылок, с помощью счастливых открытий более или менее совершенных копий и подражаний, удалось собрать и привести в надлежащий порядок все даже мельчайшие подробности в этом творении.
Выражение возвышенной величественности отнюдь не может быть достигнуто усилением и стремительностью движений, а лишь только их упрощением и смягчением. Закон этот тем применимее, чем больше фигура. То, что незаметно на маленькой фигуре, является нетерпимым на колоссе. Но тем неотразимее действует на нас эта колоссальность, если она представляется нам в строго очерченных, умеренных и просто подвижных формах. Простота была здесь тем более необходимым условием, что колосс-Парѳенос Фидия находился среди самой правильной и строго размеренной дорической cella храма и служил как бы центром всех этих прямых наклонных и горизонтальных линий. Статуя стояла прямо, в простом одеянии, ниспадающем глубокими волнистыми складками, без рукавов, в накидке, пояс к которой виднеется спереди. Правая нога всей подошвой твердо упиралась в землю и несла главную тяжесть тела, левая была слегка откинута назад. Плечо правой руки лежало вдоль верхней части туловища, предплечье же и самая кисть были вытянуты вперед. На открытой её ладони стояла Ника — крылатая богиня победы, постоянная спутница, вестница и прислужница Аѳины, также как и Зевса. Согнутая левая рука поддерживала за верхний край круглый щит, стоящий на земле, и держала копье. В пустом круглом углублении с внутренней стороны щита извивалась поднимавшаяся от земли змея, как символ Ерихфония. На голове высокий украшенный шлем, на груди эгида с извивающимися змейками и Горгонами дополняли общее вооружение. Следуя образцам старинного искусства, Фидий щедрой рукой, как из рога изобилия, осыпал фигуру Зевса целой массой второстепенных картин и преданий. Для Парѳенос он был умереннее: но и тут на всех плоских местах статуи, допускаемых её огромными размерами и простотою форм, приютились второстепенные украшения. На постаменте, в барельефе из золота и слоновой кости было изображено сотворение Пандоры; на высоком подъеме богини — борьба кентавров с лапиѳами; по краям с внутренней стороны щита — борьба богини с гигантами. На наружной же плоскости щита, середина которого занята была золотым горгонеоном, художник изобразил борьбу аѳинян с амазонками, и между сражающимися аѳинянами портреты — свой и Перикла; себя — лысым, с поднятыми обеими руками, поднимающими камень, Перикла — с лицом, несколько закрытым поднятою рукою с копьем, но узнаваемым. Конечно, общего эффекта, мы себе воспроизвести мысленно не можем, особенно эффекта красок, оттеняемых блеском золота и слоновой кости. Несмотря на теоретические познания и удачные раскопки, мы слишком отвыкли от действия красок и полихромии в скульптуре, чтобы вполне представить себе то впечатление, которое получалось от такой колоссальной статуи из золота и кости, какою была Парѳенос. В древности, когда, по общему признанию, суждения произносились удивительно верно и справедливо, произведение это, как и подобные ему, считалось вполне удовлетворяющим, Подчинимся же и мы этому суждению древности, и признаем также за факт, что под правой рукой Аѳины находилась подпорка в виде колонны, облегчающая статуе тяжелую фигуру Ники; это была техническая необходимость, которой подчинился Фидий и подчинялись другие художники в изображениях древнейших идолов.
В 438 году была окончена статуя Парѳенос и могла быть посвящена; она приковывала к себе все взгляды и запечатлевалась в душе каждого. Представлял ли себе аѳинянин свою богиню в мыслях, собирался ли каменотес изобразить ее на маленьком барельефе, — всегда и невольно случалось так, что её образ воспроизводился в формах, данных Фидием. По с окончанием самой статуи постройка храма не была, окончена; она продолжалась еще 4 года. Должно признать, что теперь Фидий был свободнее и мог самолично приняться за пластические украшения фронтонных фигур, на которых тогда остановилась работа; таким образом в знаменитой женской группе восточного фронтона следует признать собственноручную работу великого художника. От фронтонных фигур осталось слишком мало для ясного представления об общей композиции: но то, что мы видим или предполагаем, возбуждает тем большее удивление. Хотя во фронтонах эгинет довольно искусно замаскирована принужденность, происходящая вследствие трехугольного пространства, но все же она невольно чувствуется; это заметно также и на фронтонах Олимпийского храма, где однообразие и окаменелость форм противополагается смелому дикому движению. Надо предполагать, что ежедневное созерцание этих фронтонов заставило гений Фидия строго обдумать, что в них хорошо и велико, и что непонятно и ненатурально. Поэтому, во фронтонных фигурах Парѳенона кажется, что прежде всего принята во внимание самая композиция, а расположение архитектурных линий есть только естественная и целесообразная рамка для произведения. Затем, в предыдущих фронтонах эгинот и Олимпийского храма фигуры, хотя и расположены свободно и во весь рост, но задуманы и исполнены все же как для барельефа. И в фронтонах Парѳенона точка зрения на общую группировку фигур ограничена; но группы, как и отдельные фигуры, представляются нам скорее полной скульптурой, чем барельефом. Равномерное и тщательное исполнение фигур Парѳенона с задней стороны, где их нельзя было видеть, приводившее в такой восторг скульптора Ричля, составляет, но словам последнего, результат действительно божественного творческого наития, которое творит свободно и непроизвольно. Эта полная оконченность есть как бы символ, как бы указание на то, что фигуры, наполняющие фронтоны, должны быть действительно отдельными круглыми скульптурами, а не только задуманы таковыми. Образы эти, которые Канова считает новым откровением в искусстве, про которые Даннеккер восклицает: «они взяты из природы, но я не имел еще счастья видеть такую природу!» — принадлежат к высшим сферам существования, от которого они заимствованы. В созерцание их все с большим восторгом погружаются лучшие художники; так необходимо естественны они и так очевидны и в движении и в тонном покое, так благородны и совершенны по своей природе, так просты и велики, так тонки и глубоки в изображении форм!
Скульпторам, так живо восхищающимся этими барельефами, не по сердцу верное определение и поименование их. Оно и попятно: все находят здесь слишком большой материал для чувства удивления, чтобы предаваться едва разрешимым толкованиям. Но ради этого мы не должны забывать, что было совсем иначе во время возникновения этих произведений. К пониманию внешней красоты — как бы это чувство ни было развито в аѳинянах и как бы далеко оно ни распространилось в толпе — присоединялся еще сильнейший воодушевляющий материальный интерес. Тогда верили в богов и их священную историю. Подобно священному певцу, Фидий возвестил своим соотечественникам чудесное рождение Аѳины и день её творения; он открыл им, как боролись Посидон и Аѳина за обладание их великого отечества и как победила богиня, с которой их город и они сами составляли нечто единое. Так должны мы понимать, чем был Фидий для своих соотечественников.
Но единодушное воодушевление целого народа, который видит свое настоящее в идеальном свете, долго продолжаться не может. Жизнь народов, как и отдельных личностей, есть борьба, даже и в том случае, когда дело идет о высоких целях в их самом благородном значении. Век Перикла с своим творчеством не избежал этой борьбы и сопротивления. В пять лет, от 427 до 432 г., по величавому плану Мнесикла были воздвигнуты Пропилеи, составлявшие торжественный вход в акрополь. Впрочем, исполнение их не совсем соответствовало планам, ибо во время постройки возникла помеха, которая принудила к ограничениям и изменениям. В связи с Пропилеями перед южным флигелем возвышался бастион с храмом и балюстрадой Аѳины-Ники; но и здесь в общем исполнении чувствуется внешнее принуждение и внезапная перемена. Фрески храма стоят но искусству далеко ниже скульптур Парѳенона. Впрочем, из всех дошедших до нас древних произведений нет ни одного, которое так бы походило на эти скульптуры по чисто греческому, или, лучше сказать, аттическому, утонченному вкусу, как остатки балюстрадных барельефов с их прелестными быстро движущимися фигурами богинь победы. Что сделалось с художником во время исполнения этих барельефов, носящих такие ясные следы своего автора, мы не знаем. В старинных республиках средством для борьбы служили между прочим и процессы против отдельных лиц. Одной из первых жертв в борьбе против Перикла был Фидий. Талантливый преемник политики храмов должен был пасть за 1000 талантов; он исчез во тьме тюрем, служа как бы доказательством того мнения, что боги дают в удел своим любимцам и полное высшее счастье, и полное горе.
Такой выдающийся гений, как гений Фидия, оставляет особый отпечаток на своем времени и на своих последователях, — даже и в том случае, если последователи останутся далеко позади. Его манера творить и понимать искусство увлекала за собою других, я это особенно отражается на ремесленных произведениях того времени. Из работ резчиков, начавших и продолжавших свое мастерство при Фидии, особенно прекрасны и трогательны аттические могильные барельефы, которые далеко не совершенство по исполнению как целого, так и отдельных частей, но в общем в сильнейшей степени проникнуты греческим духом и античной красотою, а также и той благородной простотой и тихой величавостью, которую так восхвалял Винкельман. Особенно великолепны часто встречающиеся сцены борьбы всадников. На большом прекрасном могильном барельефе в Villa Albani в Риме изображен юноша, спрыгнувший с коня и держащий его за повод левой рукою, между тем как правой он готовится нанести удар противнику, падающему навзничь на землю; лошадь дико мечется позади юноши. В Аѳинах сохранился на своем первоначальном месте памятник Дексилея, погибшего 20-ти лет во время Коринѳской войны 394 года. Юноша изображен на лошади победоносно сражающимся с врагом, падающим на землю. Большинство могильных барельефов представляют собою семейные сцены, запечатлевающиеся в памяти у каждого зрителя. Многие выражают страдальчески грустное ощущение прощания с жизнью. Традиции Фидия отражаются и на священных рельефах, найденных в большом количестве около Асклепиеона и на маленьких рельефах, украшавших часто начало камней, с письменными записями. И те и другие внушают высокое понятие об аттических ремеслах.
Ко времени вскоре после Фидия из больших произведений относятся Елевсинские барельефы, между которыми возбудил особенное восхищение Ричля мальчик, стоящий между Димитрой и Корой, и монументальные скульптуры-фрески храма Аполлона в Вассах, в Аркадии. Строитель этого храма был Иктин, строивший Парѳенон, и потому, само собой разумеется, что и скульптурные работы в нем достались художникам, обучавшимся в Аѳинах. Вместе с достигнутым совершенством искусства, вместе с возможностью творить свободно и произвольно является и опасность необузданного стремления вперед; поэтому часто рядом с блестящими произведениями, нежными и прелестными, являются и такие, которые дышат удалью. К исполнителю Фигалийских фресок этот упрек не относится, хотя его произведения и не отличаются той тонкостью исполнения, которая так поднимает скульптуры Парѳенона и лучшие части баллюстрад Аѳины-Ники; им недостает также той возвышенной нежности и здравой естественности в одухотворении всех форм, которыми проникнуты последние. Продолжая борьбу кентавров Фидия, он заменил живость его искусства шумной возбужденностью, хотя порывы оргийного воодушевления двигаются при этом в потоке гармонических линий. В борьбе амазонок сцены неестественной борьбы перемешаны с удивительным искусством с радостными образами и ощущениями. В самых Аѳинах, на акрополе, по окончании Парѳенона, Пропилей, храма Аѳины-Ники и перестройки храма Аѳины-Полиас, приступили к постройке прекрасного ионийского храма Ерехѳиеона. Он знаменит своим сложным планом, соответствующим священным традициям храма, своей «галереей кор», в которой потолок поддерживается аѳинскими девами — прекрасный пластический прототип нынешних несчастных кариатид, — и чудесными украшениями вокруг северных дверей. Постройка, прерываемая пожарами и другими препятствиями, затянулась надолго; в конце V и даже в начале IV века храм все еще не был окончен. Время начала и конца его постройки точно неопределены и поныне.
Из отдельных статуй аттической школы, основанной Фидием сюда принадлежат несколько так часто повторяющихся стоящих фигур метателей дисков; из них «классическую статую», известную под именем «Энкриноменос», желательно было бы приписать Алкамену, если только возможно с справедливостью представить себе произведение Алкамена в такой форме и обстановке. Изогнутая фигура дискобола Мирона обнаруживает сильное физическое положение, на которое направлены вся тяжесть тела и все стремления духа. Необычность изгиба и движения всего тела, ясно чувствуемое приготовление к сильному прыжку, который должен сейчас воспоследовать, так необыкновенны, что, при его созерцании, невольно забываешь духовный элемент, присущий этой статуе, как произведению действительно великому. Стоящий метатель диска выражает своей позой движение вверх но пути. Здесь также усматривается полное напряжение, на которое направлено все внимание юноши для приобретения надлежащего положения, от которого зависит удача метанья. Но духовный элемент, интерес психологический здесь преобладает. Мотив определяется не выбором положения, а тем значением, которое ему соответствует. Метатель Мирона изображен твердо держащимся высшей степени телесного напряжения в момент бега, в стоящем же метателе кроме этого представлена и высшая степень чувства, воли, намерения и решения, которые обусловливают действие в предшествующую минуту. Хотя Пэоний, из Менды, и не назван учеником Фидия, но его статуя Ники, пожертвованная в 420 году мессинцами в Олимпию, обнаруживает его знакомство с аттическими образцами, особенно с балюстрадными барельефами Аѳины-Ники. Конечно, в понимании и исполнении формы, произведения Пэония стоят далеко ниже этих барельефов и скульптур Парѳенона, но в общем они производят впечатление чего-то смелого и гордого. По технике это творение образцовое: Ника, с развевающимися одеждами, сильным взмахом, подобным орлиному полету, бросается вниз от Зевса к тем, кому опа должна принеси, победу; благодаря искусному распределению материала, вся её фигура кажется свободно парящей в воздухе.
В раскрашенных вазах этой эпохи также отражается блеск развития высшего искусства. Подобно тому, как мы сравниваем черные раскрашенные вазы последнего чисто архаического стиля и краснофигурные вазы раннего строгого стиля с старинными раскрашенными и скульптурно-раскрашенными надгробными камнями Лисея, Аристиона и других, так и теперь, принимая во внимание различные сферы искусства, мы должны признать, по прозрачным одеждам и друг., влияние привычек, заимствованных от старинной живописи, особенно от Полигнота. И в вазах, расписанных красным и принадлежащих к раннему свободному процветанию этой живописи, и в чашах Дуриса и Евфрони усматривается, что часто интересы раскрашивателя ваз совершенно тождественны с теми, которые, как идеал, носились перед глазами Мирона и других представителей высшего искусства. Это было стремление изобразить человеческое тело в новых положениях и движениях, смелых поворотах и изгибах, и желание вполне насладиться этими мотивами, даже помимо мифологического сюжета, на котором они вращаются. Направление особой нежной миловидности, которым отличалось древнее искусство в своих стремлениях к совершенству, свободные черты полного совершенства, аттическая тенденция восхваления подвигов Фисея — все это служит нам образчиками непосредственного воспоминания о фигурах и группах великого искусства, отражающегося и видоизменяющегося на вазах. Под,впечатлением той высоты, которой достигла живопись и скульптура, раскрашиватели ваз делают попытки перешагнуть пределы цветов красного и черного, господствовавших тогда в технике. В отдельных случаях, при особенно тщательных работах, они стали придавать вазам и сосудам белый фон, который они потом разрисовывали пестрыми красками. Но эта манера, как и все другие попытки к большей пестроте удержались лишь для раскрашиванья определенной посуды, а именно для стройных лекифов, наполняемых благовонными жидкостями и употребляемых, по аттическому обычаю, исключительно при ! погребальных церемониях. В середине такого рисунка изображался обыкновенно надгробный памятник или камень, а иногда а просто земляная насыпь. Вокруг могилы группировались скорбящие и плачущие фигуры или жертвоприносящие. Часто к ним приближался прохожий путник, чтобы осведомиться, о ком эти стенанья. Иногда памятник окружался маленькими бесплотными душами, реже в таких сценах изображался Харон или сам умерший на своем одре. Эта живопись была проста, но выразительна, хотя редко она отличалась законченностью; это были скорее легкие наброски моментального обстоятельства, которое скоро должно позабыться. Часто они поспешны и небрежны, но редко грубы. Отдельные профили и руки отличаются иногда рафаэлевской красотой и изяществом; везде обнаруживается понимание благородства формы в выражении нежности, миловидности или боли. Против этих скромных произведений останавливаешься обыкновенно с чувством удивления и зависти: они доказывают, какое сильное влияние оказывал- тогда гений даже на скромные произведения ремесл.
4. Поликлет и его школа.
В то время, как Фидий творил свои чудесные произведения в Аѳинах, главою старинной аргосско-сикионской школы был знаменитый скульптор и известный учитель Поликлет. Он был моложе Фидия, и деятельность его простиралась до 428 г. до Р. Х. Он происходил из семейства художников: его отец Патрокл и братья Навкид и Дэдал были скульпторами. Поликлет был в то же время и архитектором, и в позднейшей древности о нем много писали. Но лучшим практическим руководством и образцом его искусства служит собственно одна из его статуй, а именно Дорифор, приобретший прозвище «канон». С этой статуи Поликлета, а также с его Диадумена и Амазонки остались снимки. Дорифор стоит в позе ходьбы, отставив левую ногу, обратив голову несколько в сторону, как бы присматриваясь; правая рука у него спущена, а левой он придерживает копье, лежащее на плече. Диадумен держит ноги в равномерном положении; голова у него также обращена несколько в сторону, но более подвижна и опущена. Обе руки приподняты, кисти рук на голове, где юноша повязывает себе повязку. Пропорции обеих статуи равномерны и прекрасны, хотя не так стройны, как в позднейшей древности, для которой они казались тяжеловесными. Также не колеблясь можно определить мнение тогдашних писателей об особенной манере расположения, изобретенной Поликлетом, и о некотором однообразии, отличавшем его статуи. Это именно та постановка шага, которая встречается и в Дорифоре и в Диадумене и в Амазонке. Как спокойна и обдуманна строго замкнутая поза последней, где её тело так гармонично подвигается вперед! Такое положение обнаруживает прекрасное строение, полное силы, нормальное отношение целого к отдельным частям, строго взвешенную, спокойную симметрию, и допускает тончайшее и равномерно-законченное исполнение всех частей. Но все же эти статуи производят впечатление чересчур сильной, почти грубой красоты, почему мы и понимаем легкое порицание людей позднейшего вкуса более, чем восторженные похвалы тонкой законченности и изящной красоты. Именно в этих произведениях желаемое действие обусловливается последней законченностью, признаваемой самим Поликлетом за настоящее откровение искусства. Мы не должны воображать себе его статуи окруженными нежным ореолом поэзии, составляющим преимущество аттического искусства; его статуи блистают красотой и оконченностью, тонкостью и гармонией линий в воспроизведении даже отдельных частей; этого-то не может постигнуть наша фантазия, ибо не имеет для этого точки опоры. Приняв в соображение различные эпохи и теории искусства, мы не ошибемся, предположив здесь аналогию с Леонардо, тоже изобретшим определенный тип целой школы. Из всех статуй, приписываемых Поликлету, более непосредственное впечатление на нас производит усталая амазонка, отдыхающая после напрасного боя, копии с которой находятся в Берлинском музее и в Braccuo nuovo в Ватикане. Она уже существовала, когда была открыта раненная, опирающаяся на копье амазонка, принадлежавшая, по видимому, аттической школе. Так называемая «амазонка Маттеи» есть позднейшая элегантная копия с Поликлетовой. Менее всего удалось составить понятие о Поликлетовой Гере из золота и слоновой кости, стоявшей в Аргосе. Однако нам известно, что, по мнению всех знатоков древнего искусства, статуя эта представляет собою дальнейший успех техники, так блистательно достигнутой Фидием. Совсем уверенно мы можем сказать только, во 1-х, что общий тип головы Поликлетовой Геры примыкает к общему типу, воспроизведенному в Аргосе, а во 2-х, что такое произведение такого известного культа должно было иметь огромное влияние на последующее искусство. С помощью аргивских монет и сохранившихся головок мы можем обозначить пределы, в которых должны заключаться наши представления, тем более, что .нам известно общее расположение статуи. Гера сидела на троне в длинной богатой одежде, не закрывавшей рук «белорукой богини». В одной руке у ней гранатовое яблоко, в другой скипетр с кукушкой наверху. Голову украшал обвивающий ее Stephanos, украшенный фигурками гор и харит. Но пока еще не удалось найти ничего, что давало бы полное представление обо всей статуе или только об её голове. Рядом с Герой Поликлета стояла статуя его брата Навкида, тоже из слоновой кости, изображавшая Гебу. Навкидом же были исполнены статуи Гермеса, Фрикса, приносящего в жертву барана, и метателя диска. Сикионо-аргивская школа занималась также статуями победы и даже чаще, чем это было принято у художников аттической школы.
5. Семейство Праксителя. Скопас.
Семейство Праксителя, художника и создателя книдской Афродиты и Гермеса с маленьким Дионисом на руках, стало известно и уважаемо в истории искусства уже за несколько поколений до своего знаменитого потомка, превзошедшего их всех своей славой. Старший Пракситель, дед знаменитого, работал в Аѳинах около 403 года, одновременно с Каламидом. Сын его и отец знаменитого Праксителя, вероятно, был Кефисодор, создавший, вскоре по 375 годе, прекрасную группу «Ирина с ребенком Плутусом на руках», копия с которой сохранилась в Мюнхенской глиптотеке. Богиня мира изображена во весь рост, в простой и спокойной позе, в длинном богатом аттическом одеянии; в левой руке опа держит маленького Плутуса с его рогом изобилия, а правой поддерживает длинный скипетр, упирающийся в землю. Голову, обрамленную густыми локонами, в изобилии падающими ей на затылок и на плечи, она склоняет к своему питомцу, протягивающему руку к её подбородку. Нежная кротость проглядывает в выражении её лица и движений, царственно полное телосложение и могучие пропорции ведут непосредственное происхождение от аттического искусства, тип лица также аттический известного периода развития. Такою должны мы представлять себе Димитру того времени, образ которой служит самым правдоподобным основанием для представления о подательнице мира — Ирине. Голова Диониса отличается такими же чертами. Из этого мы можем заключить, что это был тин лица, присущий семейству, знаменитого художника и, может быть, находившийся в его мастерской. Из произведений великого сына Кефисодота популярнейшим в древности считалась статуя Книдской Афродиты, полное понятие о которой дает нам прекрасная копия Мюнхенской глиптотеки. Между другими оригинальными его творениями известны также: статуя Сатира, наливающего вино из рога, находящегося в высокоприподнятой правой руке, в чашу, находящуюся в левой (несколько экземпляров этой статуи можно видеть в Дрезденском античном собрании), и статуя юного Аполлона, прислонившегося к стволу дерева, вверх по которому карабкается белка, в которую он целится стрелою. Но как мало все эти копии· и подражания могут заменить нам пропавшие оригиналы, доказывает чудесная находка Гермеса, в Олимпий, созданная рукою самого Праксителя. Находка эта не только расширила понятие об искусстве самого Праксителя, или о древнем искусстве, по и об искусстве вообще. Такой же толчок в понимании художеств дала, но в еще большей степени, в начале нашего столетия скульптура Парѳенона. Гермес Праксителя, Ника из Самофраки в Лувре и Пергамские скульптуры Берлинского музея — вот высшие пункты в истории художеств и новые масштабы для позднейших художников. Художническое поприще, подобное Праксителеву, должно было заключать в себе следы гигантских успехов, и надо предполагать, что уже мальчиком, а позднее юношей, он всей душей предался искусству своего отца и учителя. Как ни восхитительно было бы проследить и постепенно уяснить себе зарождение и полное развитие его личной гениальности, у нас нет к атому никаких средств. Надо предполагать, что Книдская Афродита была первым из его творений, достигнувших полной и свободной высоты своей; определеннее можно сказать, что Гермес не юношеское произведение, ибо он проявляет высшую степень в развитии человеческого гения. Черты сходства Гермеса с Ириной Кефисодота, лежат не глубоко. В обоих случаях это высокие фигуры во весь рост, с ребенком на руках; в обоих случаях правая рука приподнята, голова ласково обращена к питомцу, которому придан какой нибудь атрибут. Выражение мягкой, нежной ласки, соответствующее общему повороту головы, встречается также в обоих группах, но как живо и одушевленно это ощущение в Гермесе, насколько совершеннее и изящнее как общий вид, так и отдельные части в произведении младшего художника! И разница эта происходит не оттого только, что от Кефисодота остались только копии, а от Праксителя мы обладаем оригиналом. Как снисходительно мы ни относились к статуе Ирины, все же, сопоставив ее мысленно с Пракситолевым Гермесом, мы должны сознаться, что общее начертание первой рассчитано только на прямое, простое исполнение, тогда, как во втором все доведено до тончайшего и полнейшего совершенства, с которым, судя по Мюнхенской Ирине, нельзя было и сравнивать оригиналы Кефисодота. Мы доймем это лучше, если сопоставим эту олимпийскую группу с бельведерским Гермесом, которого принято было прежде называть Антиноем. Прав был Пуссен, восхищаясь её прокрасивши пропорциональными формами, но все же в ней нельзя предположить Праксителеву красоту и прелесть. Какой тяжеловесной и печальной кажется эта ватиканская статуя рядом с сердечной миловидностью, цветущей прелестью и чисто божественной веселостью, выражаемой всей фигурой Праксителева Гермеса, полной, в то же время, мощной и непреодолимой силы. А между тем родство обеих фигур несомненно, ибо ватиканская ведет свое происхождение от Праксителевой. Чтобы вполне оценить успехи времени, достаточно сравнить простой мотив складок в одежде Ирины с свободно-вьющейся, доведенной до совершенства скульптурной материей одежды Гермеса, развешанной за ним на дереве. Наконец сравним только обе головы: в тихих спокойных чертах головы Ирины всякое ощущение, всякая мысль кажутся уснувшими, между тем как выражение лица Гермеса так и искрится умом и одушевлением, еще более возвышающим его прелесть. Оба тина головок разнятся не по одному?только времени их исполнения. Женские головки Праксителя были также полны той тонкой, полной одушевления законченностью всех форм, которой отличается всякий образ им созданный; как будто он состязался с самой природой своим неисчерпаемым богатством форм и образов. В голове Гермеса, принадлежащей резцу Праксителя, находят некоторое .сходство с Лисипповой головой Апоксиомена. Сходство это не следует ни преувеличивать, ни превозносить. Пракситель был старше Лисиппа, и хотя оба художника работали под веянием одной и той же идеи и преследовали одинаковые идеалы, искусство Лиеиппа коренится в аргивско-сикионской школе бронз, искусство же Праксителя в аттических мраморных скульптурах. Тип головы Лисиппова Апоксиомена ведет свое происхождение от Дорифора Поликлета, тип головы Гермеса — от старо-аттических статуй, и его можно проследить со времени «метателя диска» Мирона. Слава и популярность Праксителя в древности была так велика, что ее можно сравнить только с популярностью, которой пользовался Корреджио в XVII и XVIII столетиях.
Немудрено, что тем сильнее было его влияние на позднейших художников. Мы часто встречаемся с отзвуками его гения даже там, где это трудно и предположить, ибо мы не можем себе представить всего богатства его искусства, всей значительности завещанного им материала. Формы его неисчислимы и разнобразны, и от них, как искры, разлетается во все стороны новая жизнь, могучие картины и бескровные тени, отзвуки и подражания, копии и заимствования, передачи, преувеличения,ослабления и недоразумения. Упомянутый уже пример Антиноя показывает нам, как постепенно потухает жизненность, проникающая творения художника и оставляющая на нем печать его личности, если стереть с него отблеск полной законченности.
Двое из сыновей Праксителя наследовали его искусство: одного звали Кефисодотом, как и деда, другого Тимархом. Оба работали над изображением Менандра для Аѳинского театра. Есть предположение, что две сидящие статуи Менандра и Посидиппа, находящиеся ныне в Ватикане, вывезены из аѳинского театра и суть оригинальные произведения Кефисодота и Тимарха; и действительно, по простой, искусной работе они заслуживают свое великое имя.
Рядом с Праксителем, большим почетом в древности пользовался плодовитый скульптор Скопас. Некоторые его сюжеты напоминают Праксителя. В Риме, во времена Плиния, не знали кому приписать большую группу Ниобеи с умирающими детьми, Скопасу или Праксителю. Произведение, пользовавшееся особым восхищением современников, была объемистая группа: Посидон, Ахилл, Нереиды и Тритоны, — должно быть, «Нереиды со щитом Ахилла». Скопас принимал участие в работе фронтонных фигур Тегейского храма Аѳины и в самой архитектуре храма, по к сожалению от них остались лишь никуда негодные обломки. Он работал также и на малоазийском берегу в Ионии и Карий. Прежде малоазийские берега принимали самостоятельное, а иногда и решающее участие в движении греческого искусства, зачавшегося на островах. Старинные сидящие статуи священной дороги в Милете, аѳинские раскопки, с которыми у них много общего и, наконец, последние раскопки на островах свидетельствуют о ранних ступенях и родах в развитии Ионического искусства, а рельефы памятника, известного под именем «памятника Гарпий» из Ксанфоса в Ликии, находящиеся ныне в Лондоне, дополняют наши представления о распространении архаического искусства. Влияние великой эпохи Фидия отразилось во всех греческих и полугреческих странах м. Азии. Во времена Скопаса, во 2-й половине IV столетия, был построен храм Артемиды в Ефесе, и одно из чудес света — Мавзолей в Галикарнасе. Эти постройки привлекли сюда со всех концов Греции множество художников, в том числе и Скопаса. Приблизительное понятие об его искусстве мы можем получить, рассматривая лучшие, из весьма неодинаковых, скульптуры Мавзолея, а руководствуясь колонными рельефами, привезенными из Ефеса в Лондон, мы поймем, какова должна была быть колонна Ефесского храма, вышедшая из рук Скопаса. Чего нибудь более определенного о личности этого художника мы сказать не можем, ибо до сих пор мы не имеем права вывести определенное заключение о быстрой, поверхностной, предприимчивой и плодовитой его деятельности. В общем однако следует сказать, что лучшие барельефы Амазонок на Мавзолее, при всей своей красоте и изяществе своих стройных образов, все же стоят далеко ниже хотя бы мощной, сжатой, полной силы картины борьбы амазонок на фигалийских фресках. В то время любили более пространные, но более пустые барельефы, чем во времена Фидиева влияния. Такие фрески с далеко отстоящими друг от друга фигурами находятся, например, на чудесном памятнике Лисикрата, поставленном в Аѳинах в память хорагической победы в 336 году. В общем они производить довольно сильное впечатление, подобное тому, которые производят разрисованные узкие помпейские орнаменты. Изменчивость вкуса проявилась здесь не на отдельных честях, а зараз в общем расположении.
Подобно тому как в V столетии аттические рисунки на вазах были отблеском высшего искусства Мирона и Фидия, так и прелестные терракотовые фигурки, найденные в последнее время в таком изобилии в Танагре, сделали нагляднее и богаче мир форм эпохи Праксителя. Эти хрупкие фигурки вскоре получили всемирную известность за необыкновенную прелесть постановки движений и форм, за неисчерпаемое разнообразие сюжетов при очевидной бедности основных форм, прежде же всего за пестроту красок на хорошо сохранявшихся экземплярах. Наши ближайшие предки представляли себе все антики непременно серыми. Теоретические познания действуют медленно и не дают живого представления о больших раскрашенных скульптурах. Даже в исключительно счастливых случаях первоначальное действие красок казалось непонятным, почти загадочным. Наконец, сделалось возможным, хотя и на небольших произведениях определенного рода, осязательно представить себе, какою была греческая разрисованная скульптура, и порадоваться живой, веселой и в то же время гармоничной пестроте, глядя на фигурки женщин и девушек с их богатыми, грациозно приподнятыми платьями, опахалами, широкополыми и остроконечными шляпами. Рядом с этими миловидными фигурками, мужские отступают на задний план, хотя тут видны не одни прыгающие и играющие эроты; сюжетами взяты и мальчики с птичкой или другой какой игрушкой и жаждущие сирены и наконец одна известная сцена, где цирюльник возится с головой почтенного гражданина. Женские головки, будь это богиня, как Артемида, муза или нимфа, или обыкновенная смертная, носят на себе отпечаток одного типа, постоянно непробиваемого и улучшаемого, сообразно идеалу каждого художника, стремящегося к известному совершенству.
Для понимания высокой живописи IV-го столетия у нас нет, к несчастию, достаточного количества наглядных примеров, так как вазная живопись, но естественному ходу искусства, представляет ту границу, где кончается искусство и начинается ремесло, и не дает нашей фантазии путеводной нити для суждения. Высокое мнение мы получаем о живописце Зевксисе, лепившем также из глины:, но мы хвалим его не за верность иллюзии, которая приписывается каждому художнику его современниками, а на большую его картину, изображающую Кентавров и так прекрасно описанную Лукианом. Этот действительный ценитель искусства не находит достаточно выражений для похвалы Зевксису. Вот имена других знаменитых живописцев этого столетия: Паррасий, Тиманф, Памфил, Павсий, Никий, помогавший самому Праксителю при выборе красок для его статуй, и наконец Евфранор, рисовавший героев, известный также и как ваятель.
6. Лисипп и Апеллес.
Скульптор Лисипп из Сикиона и живописец Апеллес из Колофона были те художники, которые чаще других писали и лепили портреты Александра Великого. Это били две звезды искусства, стоящие вблизи ослепительного светила великого завоевателя. Античные критики того времени, находившие творения Поликлета однообразными и тяжеловесными, обрели в Лисиппе вершину искусства и норму для своих художественных приговоров. Они восхваляли его за то, что он сделал легкими и грациозными те формы, которые прежде, создаваясь по общему шаблону, были тяжелы и неграциозны, за то, что фигуры его были выше и стройнее, головы их меньше, — одним словом, что на место «канона» Поликлета он дал искусству новые формы. При этом сравнении с Поликлетом обнаруживается, что Лисипп сделал действительные успехи в изображении волос, и достиг самой тщательной симметрии и самой тонкой отделки в исполнении мелочей. Этот приговор древности стал понятен с тех пор, как удалось найти прекрасную копию Лисиппова Апоксиомена — это случилось в 1849 г. в Риме в Трастевере — и сравнить ее с «Дорифором„ Поликлета, признанным позднее. Дорифор имеет прекрасные полные пропорции, но фигура его не достаточно стройна и высока; голова, по отношению к целому, довольно велика, как это часто встречается в природе; за норму этой статуи не взяты фигуры с выдающимися маленькими головками, размеры которых не бросаются в глаза, а кажутся естественными. Дорифор стоить просто и спокойно, в скромной позе, обозначающей смену движений в скульптуре очень обыкновенной и всегда хорошо действующей на зрителя; правая йога упирается твердо, левая несколько отодвинута назад, как бы для шага, верхняя часть туловища мало выдвигается из обыкновенного положения тела; голове и правой руке приданы умеренные, простые и ясные обороты; волосы, как резные, обрамляют форму черепа, не закрывая его. Лицо представляет сильные, здоровые, по простые формы и плоскости; под гладким, невысоким лбом под углом начинается прямая линия носа, нижняя часть лица широкая и полная. Апоксиомен же напротив представляет необыкновенно высокого стройного юношу, с маленькой головой и высокой шеей. Ноги не обозначают перемены в движении и положении; но общая постановка только кажется спокойной, в действительности же опа гораздо искуснее и подвижнее. Ноги широко раздвинуты, как будто юноша сейчас же покачнется; правое бедро выдается несколько из простой прямой линии. Если окинуть глазом весь контур сверху вниз и обратно, то окажется, что этот прекрасный быстро и верно очерченный общий абрис состоит из множества движущихся и волнующихся линий. Волосы на голове имеют своеобразную самостоятельную красоту, сквозь них формы черепа вполне понятны, лоб значительно выдается вперед и благодаря ясно очерченным сочленениям кажется подвижным и полным жизни. Верхняя часть лба несколько надвинута на нижнюю, из-под которой нос выдается; на голове, как и во всем теле, все формы богаче, разнообразнее и индивидуальнее. Они действуют не просто как формы и плоскости: каждая точка имеет здесь свое значение: линии разбегаются, прекрещиваютея, пересекаются; тонкая и определенная пластика дает заметную и самостоятельную игру света и тени, близкую действительному впечатлению живописи. Если бы даже мы могли представить себе Поликлетова Дорифора еще более законченным по тонкости исполнения, если бы нам удалось достигнуть полного представления этой топкости, не оправдываемого вышеупомянутой античной критикой, то и тогда мы должны были сказать, что все же в Апоксиомене обнаруживается дух новой, более нам близкой эпохи, чуждый прекрасной тонкой области Поликлетова искусства Искусство Лисиппа было построено на Поликлетовом, под влиянием его созерцания и ему в противоположность, — недаром же Лисипп называет Дорифора своим учителем. Можно сказать, что Лисипп. так относится к Поликлету, как Пракситель к Фидию. Даже в манере производить формы, не смотря на разные эпохи, чувствуется это родство; с одной стороны, блестящая, резкообозначенная красота общего в каждой отдельной, ясно ограниченной форме, свойственная искусству лить из бронзы, а с другой тонкая нежная прелесть, носящаяся, как легкое прозрачное покрывало, над всей фигурой у Фидия и Праксителя. Уже выше я указывал, как чувствуется в основных формах одновременность Фидия и Поликлета, и как условны общие идеалы, к которым стремились Лисипп и Пракситель. Существует очень много точек зрения, с которых обозревается манера этих двух великих художников, связь между ними и их противоположность.
Число произведений Лисиппа доходило до 1500; это были и большие группы, и отдельные статуи, изображавшие богов и героев, и портреты, и упряжки, и охоты, и львы, словом — разнороднейшие предметы, а также и смелые олицетворения, как, напр., случайный образ Каира. Лисипп и Пракситель совершенно подчинили себе последующее искусство. Общая форма личного типа, которую мы видим в статуе Апоксиомена, встречается позже в постоянных вариациях, иногда грубых и манерных, но всегда с узнаваемыми общими чертами, и на головах богов, напр., лицо Отриколийского Зевса, и на других статуях. Идеалы богов потерпели под влиянием его искусственное преобразование, также как всякий стремился придать своему творению положения и формы, приобретенные Лисиппом. Но и здесь возможность влияния и подражания так многочисленна, что во многих случаях трудно указать с достоверностью, как далеко распространились посредственно или непосредственно образцы Лисиппова искусства. Особенно заметно отразилось влияние Лисиппа на статуях: Мелеагра, принадлежащей, кажется, его сыну Евѳикрату, и Нищего Мальчика, в котором думают признать творение Веды. Здесь же следует назвать Колоссы Диоскуров в Monte Cavailo и Амазонку Маттеи.
Подобно Каиру Лисиппа, Апеллес написал пространную и остроумную аллегорию «Клеветы», описание которой побудило многих современных художников создать соответствующие произведения. Самыми знаменитыми его картинами были: Артемида, окруженная нимфами, и Афродита-Анадиомена, выходящая из морских волн. Фигура Артемиды походила, кажется, на Версальскую. Богиня же, родившаяся из пены, на картине Апелесса, выдавалась из воды только верхней частью туловища, нижня же, хотя и покрытая водою, сквозила из нее; руками она выжимала пену из своих мокрых волос. Может быть, здесь следует упомянуть также и Хариту Апеллеса, отличающуюся нежной прелестью исполнения и тонким чувством, проникавшим её очаровательные формы и так возвышавшим Апеллеса над другими живописцами древности. Нечто подобное встречаем мы только в некоторых помпейских картинах. Возможность сделать действительную оценку произведений Апеллеса безвозвратно потеряна для нас вместе с его произведениями. О нем рассказывают, что он рисовал вещи, невозможные в живописи, напр., гром и молнию.
Лисипп и Апеллес считались художниками, достигшими крайней меры возможной техники. И действительно, они не знали препятствий для воспроизведения задуманных образов: боги и герои, портреты всякого рода, дикие группы в бою, наивные жанровые сцены, остроумные аллегории — все поддавалось их творчеству. После Лисиппа в греческое пластическое искусство уже не вводилось более нового формального принципа; явились новые задачи и новый материал, по для воспроизведения их довольствовались раз приобретенными средствами. Средства эти были расширены, утончены, развиты, но открытая дорога была достаточно широка для восприятия всего, в чем нуждались позже, но с Лисиппом и Апеллесом были окончательно побеждены трудности познания мира естественного и духовного, господствовавшие и над последующим развитием.
7. Греческое искусство в эпоху Диадохов. Пергам. Родос. Рим.
Во время высшего процветания искусства, предводительство принадлежало самой Элладе вообще и Аѳинам в особенности. Но для задач нового времени у маленькой греческой общины, служившей постоянным яблоком раздора в египетских и македонских смутах, не хватало больше сил ни материальных, ни нравственных. Старые центры искусства — Аѳины и Сикион все еще продолжали свою деятельность, Греция все также была полна художественными сокровищами, а Аѳины предметом восхищения для грядущих поколений. В каком-то экстазе филэлленизма продолжали могущественные князья украшать Аѳины, чтобы быть там чествуемыми. Но духовное предводительство пало вместе с политическим, а торговля и богатства перешли в другие города и государства. Рядом с Александрией и Антиохией Аѳины казались идиллическим, дачным местопребыванием, способствующим мирным научным занятиям. Великое искусство, уже после Пелопонесской войны переставшее служить исключительно религиозному культу и нераздельной с ним государственной жизни, делалось все доступнее и обыкновеннее, элленический и элленизированный мир был полон статуй. Плиний утверждает, что не было возможности их всех перечислить: «во время одного эдильства М. Скавра, рассказывает он, в наскоро построенном театре было поставлено около 3,000 греческих статуй». После покорения Ахайи, Муммий наводнил Рим греческими художественными произведениями; многое было привезено и Лукуллами. И все же, по уверениям Муциана, в Родосе осталось 3,000 раскрашенных столбов и не менее того во Аѳинах, Делфах и Олимпии. Необходимость в искусстве, привычка к нему и огромная творческая деятельность сделались необходимою частью жизни.
Птоломеи, Лисимах и владетели Македонии часто изъявляли знаки своей милости о-ву Самофрак, уважаемому за его мистерии, и оставили там следы своего владычества в виде различных сооружений. Когда Димитрий Полиоркет, сын Антигона., в 306 году, одержал блистательную и решительную победу над Птоломеем у Кипрского Саламина, после которой принял титул царя и завещал его сыну, — Селевк, Птолемей, Кассандр, Лисимах, со своей стороны, следовали этому примеру, — он увековечил славу победы и победителя огромным жертвоприношением: это была большая мраморная статуя Ники, которая, стоя на носу корабля, сильным живым движением стремится по направлению движения судна. Одежды её развеваются, крылья распущены; вытянутой правой рукой она подносит ко рту длинную трубу, как бы с намерением громко прославить победу.
В статуе этой, которая, если не ошибаемся, находится теперь в Лувре, соединены: смелая концепция целого с мастерским и оконченным исполнением, широкая, полная красота, с тонким чувством изящного, ясное определенное действие главной массы с богатством и нежностью отдельных частей. Трудная задача сопоставить противоположность или единство тела и одежды, над которой так много работали в древнейшем искусстве, разрешена здесь с шутливой уверенностью; великое дело, начатое Фидием, было теперь доведено до совершенства; к богатому и свободному развитию скульптуры присоединился почти современный интерес к изображению одежды. В Гермесе Праксителя и в Самофракской Нике приходится снова удивляться, как много было сделано в этом направлении в древности и как, несмотря на то, что это было необходимо подразумеваемой частью полного исполнения, оно не выдавалось из общего и не резало всем глаз. Год постановки Ники не определен с точностью и весьма возможно, что она была воздвигнута не непосредственно после победы, а несколько позже, около 294 г. Во всяком случае непреложным фактом в истории искусства является то обстоятельство, что такое произведение было исполнено позже 300 г. до РХ.; оно показывает, на что было способно греческое искусство под могущественным влиянием Праксителя и Лисиппа.
100 лет спустя, Пергамский царь Аттал I-й воздвигнул на аѳинском акрополе обширную группу, состоящую из многих фигур. В 229 году он вытеснил из пределов своего государства келтов, вторгшихся в греческие владения. Эту победу он поставил на ряду с величайшими победами, упомянутыми в истории и преданиях Греции, на ряду с битвами богов с титанами, Фисея с амазонками и Мараѳонской. Все эти 4 битвы изображены в пожертвованных им группах, состоящих из скульптурных круглых фигур и имеющих в разрезе около 2-х греческих локтей; размеры эти для того времени необыкновенны. Теперь удалось, благодаря открытию Брунна, разыскать и привести в первобытный порядок целый ряд этих аттальских статуй, разбросанных по различным музеям. Когда и каким образом они были перевезены в Италию, еще не совсем ясно; в IV веке после РХ. они еще находились в аѳинском акрополе. Фигуры, найденные доселе, суть изображения побежденных: гигантов, амазонок, персов и галлов. Все они изображены в момент живого движения то падающими, то опускающимися назад, то коленопреклоненными, то распростертыми по земле, умирающими и испустившими последнее дыхание, в тщетной борьбе против победителей, действующих сверху. Работа исполнена мастерски и энергично, но неравномерно закончена во всех фигурах. Напр., фигура коленопреклоненного перса в Ватикане положительно выдающаяся, меж тем как все другие посредственны и небрежны. Впрочем, в таком произведении, каким было это аттическое пожертвование, должны были попадаться неровности. Неровности эти, в связи с необыкновенным масштабом фигур, подали повод открывшему их предположить, что Аттал пожертвовал аѳинянам лишь уменьшенную копию, исполненную его художниками, с памятника, воздвигнутого в больших размерах в самом Пергаме. Во всяком случае, и в Пергаме были подобные еще и более величественные монументы в честь победы Аттала. В записках Плиния о скульпторах из бронзы сказано, что победы Аттала І-го и Евмена II над галлами были изображены художниками Истоном, Ѳиромахомг, Стратоником и Аптигоном. Неясные следы этих статуй, найденные в Пергаме, подтверждают то мнение, по которому эти статуи должны были быть из бронзы, и указывают также, что они были воздвигнуты для прославления побед не только над келтами, но и над Антиохом. Давно уже и совершенно справедливо были приписаны Пергамской школе: группа Галлов в Villa Ludovisi в Риме и статуя умирающего галла в Капитолийском музее. В них нельзя не признать близкого родства с статуями Аттальскими, из которых одна на мотив умирающего галла сильно напоминает капитолийскую. Статуя эта, называвшаяся прежде «умирающим воином» и воспетая Байроном, действительно производит глубокое впечатление на всякого понимающего зрителя. Мощный воин — герой, национальность которого сразу определяется по чертам лица, прическе, усам и ожерелью, склонился над своим щитом и сломанным рогом, как бы не желая отдать их неприятелю, как не отдает ему и самого себя, предпочитая умереть от большой раны, нанесенной себе самому в грудь. Тело его обнажено, ибо кельты, в смелой гордости, любили таким образом подвергать себя опасности греческого оружия: тело это обнаруживает стройное сложение и крепкую закаленную силу; мускулы вылиты словно из стали, кожа эластична и нечувствительна, как самая гибкая ткань. Из бронзы следовало бы вылить это сильное закаленное тело, заключающее в себе столь же сильную и непоколебимую душу; однако же сохранившаяся мраморная статуя сделана с таким свежим, живым и обдуманным искусством, что пет причины по считать ее оригинальным произведением. Еще большее впечатление производит группа в Villa Ludovisi по мысли, в нее вложенной; на ней галл изображен убивающим собственную жену, и пронзающим себя самого в грудь тем же мечем — освободителем, чтобы не подвергнуться постыдному рабству, бывшему уделом побежденных. Здесь следует заметить, что такое изображение было немыслимо во времена Александра и Аристотеля. Искусство, заимствованное от древности, служило для грубых, исторически верных характеристик: здесь же сам эллинский художник удивляется и сочувствует, как явлению благородному, этому чужому побежденному воину, который в своей дикой храбрости и непреклонной воле смерть предпочитает бесчестию. Не то было и более ранних изображениях победы: побежденные амазонки — тоже принадлежащие, подобно богам и героям, к эллинскому роду — изображаются прекрасными; персы же характеризуются, хотя и ясно и удовлетворительно, но только в общих чертах. Пока не поколебались основы, так гармонично поддерживавшие прекрасное греческое направление, не считалось возможным такое любовное понимание природы и обычаев варвара, врага, которое отражается в описанном художественном произведении. С какой исторической правдой и серьезным достоинством изображены здесь чужой, негреческий тип лица, резкая жесткость фигуры, оригинальность волос и бороды, присущие только кельтам!
Царствование преемника Аттала І-го, Евмена II, представляет высший пункт пергамской эпохи. В это время, т. е. от 197 до 149 г. до РХ., была воздвигнута большая алтарная постройка, скульптуры которой, благодаря блестящему открытию Карла Гуманна, находятся теперь в Берлинском музее. Греческое, пластическое искусство с давних пор с особой любовью уже применялось к самым разнообразным украшениям священных сооружений. Целый ряд тому примеров мы имеем и в скульптурных метопах, и в фронтонных фигурах, и в рельефных фресках; балюстрады Аѳины-Ники окружают всю область храма, а в Артемизионе в Ефесе даже колонны украшены фигурными барельефами. Алтарь, воздвигнутый в Пергаме, возвышался над высоким фундаментом, к которому вели ступени, и был окружен блестящими архитектурными произведениями, богато украшенными пространными барельефами. Обширная, открытая снаружи галерея, увенчивала этот фундамент и состояла из ионической колоннады; с внутренней её стороны, обращенной к самому алтарю, тянулись фрески, изображавшие сцены из преданий о мифическом прародителе пергамлян, Телефе, сыне Геркулеса. Последнего легко было узнать по палице, на которую он опирается, а также потому, как он любуется на сына своего (Телефа), который, сидя на очаге, угрожает маленькому Оресту, вынуждая этим Агамемнона согласиться на его просьбу. По-видимому, это были красивые барельефы, тщательно и мило выполненные, но, к несчастью, от них осталось очень мало. Несравненно интереснее барельеф, изображающий борьбу гигантов; он тянулся широкой лентой вдоль всего фундамента под колоннами верхней галереи, между сильно выдающимися архитектурными выступами. Самое протяжение его уже необычно. Рельефная поверхность в вышину, сверху вниз, занимала около 2,30 метров, в длину же тянулась на 400 футов; и все это пространство было занято изображением одного только сюжета — борьбы богов с гигантами; в опасной битве этой, значительной по смыслу, обширной но пространству, боги должны были употребить все усилия для удержания победы. Они все принимают в ней участие, сопровождаются целой свитой демонов и священных животных и обращают в дело все оружие, все ужасы, которые находились в их власти. Зевс потрясает эгидом и грозит молнией; его орел вонзает когти в змеевидное тело противника; Аѳина бросается в битву и хватает врага за волосы; её священная змея борется рядом с нею, и сюда же прилетает Ника, чтоб увенчать свою богиню. Тщетно Гея поднимается из земли и молит пощадить её сыновей. В борьбе этой принимает участие и Дионис со своей пантерой и сатирами, и Посидон на колеснице, запряженный морскими чудовищами, и Амфитрита и Арей, и Гефест и Артемида с Аполлоном. Даже тройственная Геката, едущая на льве Кибела и размахивающий молотом Кабир смешиваются с дикой толпою человеческих и звериных фигур. Образы гигантов столь же разнообразны, как и богов: один, задушенный в борьбе, носит львиную голову и лапы на туловище человека, а ноги его оканчиваются змеями. Многие, но не все, одарены змеями вместо ног, другие крылаты. Дикие, зверо-демонические сыны земли и юношески-прекрасные, вызывающие сострадание образы — все побеждены в этой борьбе с богами, все разбиты и уничтожены. Они жалуются и стонут, они изгибаются в конвульсиях от боли и отчаяния — вот как далеко ушло греческое искусство в выражении смертной муки от воинов на эгинских фронтонах, которые тихо и жалобно улыбаются, как бы не находя ничего ужасного в смерти! А как далеко оно по бурным движениям от тех симметрических сдержанных фигур! Старые пергамские скульптуры, умирающий галл, группа в Villa Luclovisi, аттальские фигуры, все они, не смотря на живость выражения, носят на себе наследие сдержанной строгости, характеризующей собой свободную круглую греческую скульптуру. В бое же гигантов барельеф служить не стеснением, а скорей вспомогательным средством для изображения смелой отваги. Можно думать, что в эти мраморные группы перешла свобода живописи; нигде не видно ни малейшего стеснения, полагаемого техникой или материалом; они подчиняются каждой мысли, каждому оттенку чувства, как будто бы это было делом самым простым и обыкновенным. И какое невероятное искусство в исполнении! какая первобытная сила и оригинальность! Какое богатство изобретения и какая легкость творчества, какая свобода от всякого давления эпигонов искусства, жалующихся, что предшествующие художники не оставили больше ничего делать По словам Винкельмана, мы должны иметь необыкновенно высокое представление о всей сумме духовной силы и художественной высоте, которые остались тогда в Пергаме и в пергаменом царстве.
Как только стали известными пергамские скульптуры, так сейчас бросилось в глаза всем необыкновенное сходство между их отдельными фигурами и знаменитыми античными произведениями. Мотивы фарнезского Геркулеса станут нам живее и понятнее, если у ног его мы вообразим маленького Телефа. Где в таком изобилии скопились художественные сокровища, туда верно придут заимствоваться потомки. Но главным центром в истории искусства того времени является группа Лаокоона, на которую нападает змея Аѳины; хотя гигант, схвативши самого себя за волосы и делается неузнаваемым, но в общем имеет известное сродство со всеми предыдущими гигантами. Долго спорили о древности группы Лаокоона, и лишь теперь стало ясным, что она возникла после пергамских барельефов, ибо в ней отражаются те же мотивы, которые с такой ясностью и значительностью разработаны в борьбе гигантов. Она должна была возникнуть или несколько ранее эпохи империи или, что самое позднее, в её начале: ибо одна помпейская картина, в которой нельзя не предположить приблизительного знакомства с этой группой, принадлежит к стилю стенной живописи эпохи Августа и его первых преемников. Таким образом, границы возможного происхождения этой группы удаляются до 150 или 200 лет, и вероятно, по более точным исследованиям и сравнениям, окажется, что на самом деле она принадлежит последним годам до Р. Хр. Она была новинкой в Риме, когда Виргилий набросал свое поэтическое изображение гибели Лаокоона, как бы соревнуя пластическому. Во всяком случае Лаокоон никак не римское, а чисто греческое произведение. Оно не начинает повой эпохи в искусстве, а стоит в конце длинного ряда одного из угасающих родов греческого искусства. Художниками группы Лаоокона называют Агисандра, Полидора и Афанодора из Родоса, сильной, богатой торговой республики, никому не уступавшей своего значения и одно время даже поднявшейся до невероятной высоты; опа пребывала могущественной во все время борьбы династии диадохов до самого римского периода. После победоносно отраженной осады Димитрия Полиоркета, родосское искусство принимает новый оборот, сознательный и преднамеренный. Тогда был воздвигнут родосским художником Харесом из Линда, учеником Лисиппа, медный колосс родосского национального божества Гелиоса·, он работался 12 лет, имел в выпишу 150 футов и считался одним из чудес света. По современному, сильно распространенному убеждению, его изображают, с упорным заблуждением, в виде колосса, стоящего с раздвинутыми ногами над входом в гавань. И более ста колоссов, хотя и не таких громадных, воздвигли родосцы в своей стране! Богатство, любовь к блеску и роскоши давали обильную работу художникам, стекавшимся туда отовсюду. В Родосе же находилась, до перенесения в Рим, большая группа: так называемый «Фарнезский бык, произведение рук Аполлония и Тавриска из Тралл. Это смелое произведение задумало шире и живописнее Лаокоона, восхваляемого, как самый замкнутый образец античного искусства. Но по формам группа Аполлония и Тавриска старее Лаокоона и имеет скорее родство с старинными пергамскими скульптурами, с статуями умирающих галлов и группой Liutovisi. В ту эпоху различные направления искусства часто встречались и перекрещивались между собою; тогда владели такой массой наследственных мотивов и способов воспроизведения, что по ним был в состоянии работать каждый, как играть на различных инструментах. Сильный героический род смешивался с идиллическим и миловидным, копировались знаменитые произведения всех школ, старые образцы соприкасались со всякой новой задачей.
Образцами для Рима, т. е. для всякой скульптуры и архитектуры национального римского характера, послужили, само собою разумеется, эти новые произведения греческого искусства, которые были им ближе всего и но общности обстоятельств, и по потребностям и понятиям того времени, и которые потому и отразились на больших постройках, драгоценных колоссах и на блестящих памятниках, украшенных группами статуй и барельефами в Александрии, Антиохии, Родосе и Пергаме. Вершиной художественности в национальной римской скульптуре считаются барельефы Траяновой колонны, которые были продолжением начатого когда-то в Пергаме, и не смотря на то, что в эпоху всемирной монархии, когда все художественные и духовные интересы стремились к одному центру, и месторождения отдельных художников теряют свое прежнее значение, в этом случае мы невольно вспоминаем, что великий художник, наложивший свою печать на искусство при Траяне, был Аполлодор из Дамаска, т. е. человек, родившийся на востоке. Языческому искусству не оставалось ничего другого, как эклектизм и сильно с ним связанный архаизм, в смысле движения назад к отжившим и сделавшимся непонятными формам.
В последние времена римской республики, если только мы правильно поняли следы его влияния, в архаическом и эклектическом роде работал и создал свою школу скульптор Паситель, родившийся в нижней Италии. Это был многосторонний, прилежный и аккуратный художник, занимавшийся также и литературой и оставивший статью о лучших художественных произведениях всех стран и народов. Теперь является предположение, что эта ученая деятельность должна была влиять хотя сильно, но регрессивно. Все эклектики — хорошие знатоки им предшествующего искусства, будь это Карачи или Менги. Как в литературе возникает иногда спор о выборе образцов и степени их самостоятельности, так должно было случиться и в области пластических искусств: и то и другое было естественным следствием всемирного представительства Рима. По-видимому, Пасителя столько же утомляли дикие, шумные, обильные фигурами родосские группы, сколько его не удовлетворяло гладкое изящество, внешняя идеализация ново-аттической школы. Он настаивал на тщательном и самостоятельном подражании природе, стремился заимствовать преимущества всех школ, избегая их недостатков, и в то же время его привлекала простота и строгость старинных мастеров, как в наше столетие особый род эклектизма заставил некоторых художников обратиться не как Карачи или Менги к Корреджио, Тициапу или Рафаэлю, Микель-Анджело, а к дорафаэлевским живописцам. Этот элемент возобновления старины так заметен в одной из фигур в Villa Albani, принадлежащих резцу скульптора, Стефана, и в группе Орест и Електра в Неаполе, что возник даже спор относительно мужских фигур, не просто ли это копии. Прекрасная, многозначительная группа «Женщина и юноша» в villa Ludovisi показывает, что последователи Пасителя не довольствовались более подражаниями древнему искусству, но связывали свои произведения с позднейшим и более оконченным художеством. По сохранившейся надписи, группа эта принадлежит одному из отдаленных последователей Пасителя, ваятелю Менелаю, ученику Стефана. Она так привлекательна в своем целом, так тщательно обдумана в рисунке и композиции, так умно проштудирована, так прилежно и верно воспроизведена в изображении обнаженного тела и одежды, что неохотно видишь её недостатки. Но как бы ни было в ней живо отражение греческого духа, все же она есть произведение эпигона, который с самоотверженным усилием стремится к идеалам не своего времени, а возникнувшим из набожности и образования прошедших столетий. При всех стремлениях к простой и ясной группировке, действительный момент действия выражен неясно и сомнительно; при всем богатстве пластического исполнения, общая композиция не производит впечатления первобытного пластического произведения, а скорее прежде нарисованного изобретения; так же действует на душу зрителя и неапольская группа Ореста и Електры.
Более дикие формы принимает эклектицизм при Адриане. При Траяне, непонимавшем искусства, но сильном характером и властью, искусство так же честно, дельно и полно характера, как и сам властитель, которого оно чествует; это явление прекрасное. При меценатстве его преемника, дилетантствующего и претенциозного, искусство распадается на несколько различных направлений. Вкусы делаются многостороннее, и для возбуждения их требуются новые средства. Стили самых различных времен и народов воспроизводились рядом, в роде того, как в Мюнхене сопоставлены различные практические образцы различных архитектурных стилей. рхаизм повернул далеко назад, дошел до египетского искусства, произведениям которого придаются впрочем более мягкие формы. Адриану нравилось применять греческие формы в Египте и египетские в Италии. Насколько были способны тогдашние художники к изяществу, технике и изобретению, и к чему они стремились в искусстве, мы видим на фигурах Антиноя, в статуях и барельефам. Но никакого здорового вкуса не имеют эти прекрасные, но мрачные и тяжелые вещи. Правление Адриана, необыкновенно усилившее массу произведений и даже самую способность к производительности, служит в истории искусства только сильной последней вспышкой. После всех усилий принципиального обновления через архаизм и эклектицизм, оставалось лишь одно — полный упадок.
Со времени постановки в Аѳинской крепости большего жертвенного подарка Аттала, Аѳинам часто приходилось принимать знаки милости чужеземных князей и частных жертвователей. Грустно думать, что город, стоявший некогда во главе поэзии и художеств, простиравший свое влияние до Кипра и Киликии и определявший даже форму и рисунки монет персидских сатрапов, в последний период античного искусства служит лишь отзвуком того, что делалось у других народов. И с какой радостью принимались всякие чужие милости этими потомками гордых мараѳонских победителей! какими превыспренними выражениями благодарности награждали они за них! Евмен II и Аттал II построили им стой и галереи, сириец Андроник 8-ми угольную башню с флюгерами и некрасивыми богами ветров на барельефах, Цезарь и Август новые ворота для рынка, Агриппа маленький театр; но всех этих жертвователей превзошел Адриан, с которым в этом отношении может быть сравниваем разве только Ирод-Аттик, природный аѳинянин, жертвовавший как частный человек. Адрианом был наконец окончен с необыкновенной роскошью Олимпийон, храм олимпийского Юпитера в Аѳинах, начатый некогда Писистратом, продолженный только по повелению Антиоха IV Епифана римским строителем Коссутием, и долго еще стоявший в неоконченном виде до Адриана, который окончил с невероятной роскошью. Около этого сооружения возникли Новые Аѳины, состоявшие из римских вилл. Ирод же построил Панаѳинейский Стадион, и под крепостью, невдалеке от большего театра, Одеон. Но как ни прекрасно место под чудесными колоннами Олимпийона, как ни радовались этим постройкам сами граждане, как бы поучительны, как бы ни привлекательны они были во всяком другом месте, все же, при всей исторической добросовестности и всем стремлении к общему историческому взгляду, нельзя отделаться от мысли, что в Аѳинах эти постройки не на месте, что они здесь чужие. Только сооружения и развалины эпохи Перикла не кажутся здесь чужими, а напротив, подчиняясь великой и благородной красоте аттического ландшафта, они украшают его; с ними связаны идеальные представления, которые мы носим в сердцах, как драгоценное завещание истории греческих древностей.
III. Ваятели и живописцы, упоминаемые у Павсании
Агелад, знаменитейший аргивский художник, многосторонних дарований, славившийся от 70 до 82 ол., учитель трех художников, которые довели греческое искусство до высшего развития: Поликлита, Мирона и Фидия. Его творения: 1) Зевс Иѳомей, для мессинян, в Навнакте IV 33, 3. .2) Зевс мальчик, и 3) Иракл юный, в ахейской Эгии VII 24,3. 4) лошади и пленницы, пожертвование тарентинцев в Делфы X 10,6. 5) атлет Анох, в Олимпии VI 14, 11. 6) атлет Тимасифей, ib. VI 8, 6. 7) четверка коней Клеосѳена, из Епидамна, со статуями победителя и возницы — величайшее и замечательнейшее произведение, в Олимпии VI 10, 6.
Агоракрит, с о-ва Пароса, ученик и любимец Фидия. Его творения: 1) Аѳина Итония, и 2) Зевс, в храме Аѳины в Коронее IX 34, 1.
Ему же приписывают Немесиду, в Рамнунте I 33, 3 пр.
Алин, из Сикиона, ученик Навкида. 1) участвовал в изваянии лакедемонских полководцев в Делфах X 9, 10.
Кроме того его работы в Олимпии атлеты: 2) Симмах, илеец VI 1,2. 3) Неолаид, фенеец, ib. 4) Архидам, илеец, ib., и 5) Евѳимен, меналиец VI 8, 3.
Акестор, из Кноса, изваял статую атлета Алексивия, в Олимпии VI 17, 4.
Алкамен, знаменитый ученик Фидия, участвовавший в его работах уже 83 ол. Замечательные его творения: 1) «Афродита в Садах», названная так вследствие положения храма в саду около Аѳин, величайшее и благороднейшее произведение I 19, 2. 2) Гера, в храме между Фалерном и Аѳинами I 1, 4. 3) Геката Епипиргидия, около храма Ники Аптерос в аѳинском акрополе II 30, 2. 4) Аѳина и Иракд, в Ѳивах, дары Фрасивула IX 11,4. 5) Арей, в Аѳинах I 8, 5. 6) Дионис, около Аѳин, в Лимнах I 20, 2. 7) Асклепий, в Аркадии, в Мантинее VIII 9, 1. 8) Битва лапиѳов с кентаврами, на заднем фронтоне храма Зевса в Олимпии V 10, 2. 9) Группа: Прокна и Итис, в аѳинском акрополе I 24, 3.
Амфион, сын Акестора, из Кноса, ок. 88 ол. изваял группу для киринѳян, в Делфах X 15, 4.
Анаксагор, философ; его статуя Зевса в 10 локтей вышиною, в Олимпии V 23, 1.
Ангелион, см. Тектей.
Андросѳен, см. Праксия.
Антенор, из Аѳин, изготовил группу убийц тираннов, Армодия и Аристогитона I 8, 5.
Антифан, из Аргоса, изваял Диоскуров, которые находились в числе пожертвованных даров Лисандра, после битвы при Эгос-Потамах X 9, 4,6.
Анѳерм или Архерм, см. Вупал.
Апеллес, из Колофона, величайший из живописцев, современник Александра В., его хариты в Смирне VII 35, 6.
Аристандр, из Пароса, работавший треножник в Амиклы, дар лакедемонян после битвы при Эгос-Потамах III 18,5.
Аристон, лакедемонянин, с Телестою изваял громадную статую Зевса, дар клиторских аркадян в Олимпию V 23, 7.
Аристогитон, см. Ипатодор.
1. Аристокл, из Сикиона, брат Канаха и равный ему но искусству VI 9, 1.
2. Аристокл, из Кидонии на о-ве Крите; древнейший художник, ок. 29 ол., изваял группу: «Иракл в борьбе с царицей амазонок» в Делфах V, 25, 6.
Аристомед, см. Сократ.
Аристомедон, из Аргоса, ж. до персидских воин, изваял несколько статуй, дар фокейцев в Делфы X 1. 4.
Аскар, из Ѳив, ж. во времена Ксеркса. Его работы статуя Зевеса в Олимпии, дар фокейцев V 24, 1.
Аѳинодор, как и Дамия, из Клитора в Аркадии, ученик аргивской школы Поликлита, участвовал в изваянии 10-ти полководцев X 9, 7 сл.
Вафикл, из Магнезии в малой Азии, современник Креза, соорудил трон Аполлона Амиклейского, и по окончании этой работы пожертвовал Харит и Артемиду Левкофрину III 18, 6 сл.
Вриаксид, младший современник Леохара и Скопы, изваял Акслепия и Игиею, в Мегары I 40, 5.
Вупал и Анѳерм, два брата с о-ва Хиоса, из художнической семьи Меласа (30 — 52 ол.). Творения Вупала: 1) Хариты, в Смирне и 2) в Пергаме IX 32, 2. 3) Тиха в Смирне IV 30, 4.
Гитиад, из Спарты, ок. 81 ол. изваял 1) медную статую Аѳины, в храме Халкидки, в Спарте III 17, 3; 2) треножник с фигурами Афродиты и Артемиды, в Амиклы III 18, 5 (ср. IV 14, 2).
Главкий, из Эгины, ок. 73 ол., изваял несколько статуй победителей в Олимпии: 1) Гелона с четверкой коней VI 9, 4. 2) атлета, фазосца Ѳеагена VI 11, 3. 3) атлета Филона из Коркиры: VI 9, 9. и 4) атлета Главка, из Кариста VI 10, 1 — 3.
Главк, из Хиоса, называется также самосским, ок. 25 ол., изобрел искусство спайки, или, скорее, воронения железа X 16, 1. [Герод. I 25]. Из фигур его нам известна чаша, вероятно, железная, обделанная серебряными фигурами и украшениями, которую Алиат, царь лидийский, пожертвовал в храм Аполлона в Делфы. По П. (X 16, 1), это была подставка для кратера.
Дамей, из Кротона, ок. 60 — 70 ол. изваял статую атлета, кротонца Милона, в Олимпии VI 14, 5.
Дамия, аркадянин, см. Аѳинодор.
Дамофонт, из Мессины, которого П. называет единственным мессинцем, умевшим делать, как следует, статуи IV 31, 10. Творения его: 1) Матерь богов, в Мессине IV 31, 5; 2) Артемида Лафрия, ibid. 3) Несколько групп там же, в храме Асклепия, IV 31,6-9. 4) Илифия, в Эгии VII 2,3,5. 5) Асклепий и Игиея, ib. 5) Группа: Димитра, Кора, Артемида, Асклепий и Игиея, в Мегалополе VIII 31,1. 7) Ерм и Афродита, в Мегалополе, VIII 31,3. 8) Там же стол с рельефами, ib. 9) Группа: Деспина, Димитра, Артемида и Анит, около Мегалополя, в Акакисии VIII. 37, 3 сл.
1. Дедал, древнейший ваятель, прославившийся во всех странах древнего мира. Предание о нем восходит ко временам, предшествовавшим троянской войне и считает его современником Эдипа и Фисея. П. называет его творения безобразными, но заключающими в себе нечто божественное. Все они были деревянные. В его лице сказания сосредоточили все зачатки поступательно развивавшегося искусства. Его творения: 1) Артемида в Опунте, на о-ве Крите IX 40, 2. 2) Аѳина, в Кносе ib. 3) Афродита, на о-ве Делосе, ib. 4) хор Ариадны, на о-ве Крите, ib. 5) Трофоний, в Левадии, ib. IX 89, 8. 6) Иракл, в Ѳивах, ib. IX 11, 2. 7) Иракл, на границе Мессинии с Аркадией VIII 35, 2. 8) Иракл, в Коринѳе II 4, 5; 9) дар аргивян в Гереон, около Аргоса и 10) статуя, в Геле IX 40, 4; VIII 46, 2; 11) складной стул в Аѳинском акрополе I 27, 1.
2. Дедал, из Сикиона, сын и ученик Патрокла. Более раннее его произведение: 1) дар тегеян в Олимпию, после победы ок. 95 ол. над лакедемонянами VI 2, 4. 2) Ника и Аркад, в Делфах X 9, 3. 3) атлет Евполем, в Олимпии VI 3, 3. 4) атлет Аристодем, в Олимпии VI 3, 2. 5) атлеты: Тимон и сын его Эсин, в Олимпии VI 2, 4. 6) атлет Нарикид, в Олимпии VI 6, 1.
Димитрий, по Квинтилиану (XII 10) наиболее достигавший верности природы после Праксителя и Лисиппа. Ему приписывают статую жрицы Лисимахи I 27, 5.
Диномен, ок. 95 ол., изваял Ио и Каллисто в аѳинском акрополе I 25, 1.
Дипип и Скиллид считаются учениками и даже сыновьями Дедала II 15,1. Творения их: 1) Аѳина, в Клеонах ІІ 15,1. 2) группа: Диоскуры верхом, их сыновья, Анаксис и Мнасинунт, мать Илаира и Ѳива, в Аргосе II 22, 5.
Дионисий и Главк, два аргивянина, ок. 78 ол., изваяли: 1) большую группу — дар Микифа, в Олимпии V 26, 2. 2) конь с возницей, в Олимпии V 27, 1, см. Симон.
Донта и Ѳеокл, считающиеся учениками Дипипа и Скиллида, делали статуи из кипарисового дерева, украшенные золотом; от первого — группа исперид, в Олимпии V 17, 1. VI 19, 5, от второго — группа: Иракл в борьбе с Ахелоем, в Олимпии VI 19, 9.
Дориклид и Медон, два брата из Лакедемона, которых называют учениками Дипипа и Скиллида. Творения их в Олимпии: Фемида и Аѳина, из золота и слоновой кости V 17, 1.
Еввий и Ксенокрит, ѳивяне; от них Иракл, в Ѳивах IX 11, 2.
Евтемид и Хрисоѳемис, два аргивянина, старой школы, ваятели статуй атлетов: Демарата и сына его Ѳеопомпа в Олимпии, победивших в 65 и 70 ол. VI 10, 2.
Евтихид, из Сикиона, ученик Лисиппа, создававший из меди и мрамора. Его статуи: 1) атлет Тимосѳен, в Олимпии VI 2, 6. 2) Тиха, в Антиохии, ib.
Евфранор, из коринѳского Исѳма, старший современник Александра Македонского, один из величайших художников своего времени, отличавшийся во всех родах ваяния, как из меди, так из мрамора. Ему приписывается множество произведений, и между ними статуи Филиппа Македонского и Александра В. Его Аполлон Патроос в аѳинском Керамике I 3, 3. Его же три картины в Керамике: 1) аѳинская конница в сражении при Мантинее, 2) двенадцать богов, и 3) Фисей с Народоправием 1 3, 3-4.
Ендий, из Аѳин, около 70 ол. художник старо-аттической школы, почему некоторыми считался даже учеником Дедала. Его творения: 1) сидячая Аѳина, в аѳинском акрополе I 26, 5. 2) Аѳина Алея в Тегее, перевезенная в Рим VIII 46, 1 сл., на место которой поставлена была Аѳина Иппия VIII 47, 1. 3) Аѳина Полиас в Ериѳрах с харитами и орами VII 5,4.
Епей, у Гомера строитель деревянного коня (Од. VIII 493). П. упоминает об Епее, вырезавшем из дерева статую Ерма, в Аргосе II 19, 6.
Ипатодор вместе с Аристогитоном, также ѳивянином, ок. 102 ол. изваял для аргивян 1) дар в Делфы, группу «Семь против Ѳив» X 10, 2. и 2) Аѳину, в Алоферах VII 26, 7.
Каламид, ж. в Аѳинах, современник Оната, 75 — 80 ол., многосторонний художник, искусный во всех рядах ваяния. Его творения: 1) Аполлон Алексикакос, в Аѳинах 13, 3. 2) Аммон, посвященный Пиндаром, в Ѳивах IX 16, 1. 3) Ерм Криофорос, в Танагре IX, 22, 1. 4) Дионис, там-же IX 20, 4. 5) Асклепий юный, в Коринѳе II 0 3. 6) Афродита, в аѳинском акрополе II 2, 3, 2. 7) Ника бескрылая, в Олимпии V 26, 5. ) Ермиона, в Делфах X 16, 2. 9) молящиеся мальчики, в Олимпии V 25, 5. 10) группа: колесница с всадником, двумя конями и двумя мальчиками, в Олимпии VI 12,1.
Калликл, сын ваятеля Ѳеокосма, ок. 90 ол. изготовил статуи: 1) мальчика-атлета Гнафона VI 4, 3. 2) атлета Диагора VI 7, 1, — обе в Олимпии.
Каллимах, старший современник Фидия, прозванный «какизотехнос», т. е. неудовлетворительный художник, потому что употреблял слишком много старания на свои работы, почему, вероятно, и славился во время изящного стиля. Витрувий присваивает ему (IV 1, 9) изображение, т. е. вероятно, более изящное украшение и пропорции, коринѳской капители. Его творения: 1) золотой светильник, в аѳинском акрополе I 26, 7; 2) Гера, в Платеях IX 2, 5.
1. Каллон , из Эгины, славился между 70 и 80 ол Его работы: 1) медный треножник, в Амиклах III 18, 5. 2) деревянная статуя Аѳины, в Коринѳе II 32, 4.
2. Каллон, единственный известный художник из Илиды, ок. 71 ол. Его творения: 1) Ерм, дар Главкия из Ригии в Олимпии V 27, 5. 2) группа: мальчики с учителем хора и флейтистом, в Олимпии V 25, 1.
1. Канах, из Сикиона, современник Каллопа и Агелада, славившийся ок. 70 ол., один из знаменитейших художников своего времени. Его творения: 1) сидящая Афродита, из золота и слоновой кости, в Коринѳе II 10, 4. 2-3) Аполлон, в Милете и в Ѳивах IX 10, 2.
2. Канах младший, также из Сикиона, ученик Поликлита, славившийся ок. 95 ол. Его творения: 1) атлет Викел, в Олимпии VI 13, 1. 2) лакедомонские полководцы, в Делфах X 9, 10.
1. Кефисодот, из Аѳин, славившийся около 102 ол. Его следует отличать от жившего ранее, ок. 90 ол., живописца того же названия и позднейшего ваятеля из школы Лисиппа. Его произведения: 1) большая группа в Мегалополе VIII 30, 5. 2) Аѳина и Зевс, в Пирее 11,3. 3-4) группы муз, на Еликоне IX 30, 1. 5) богиня мира, в Аѳинах IX 6, 2.
2. Кефисодот, сын Праксителя, ок, 121 ол. Изваял: 1) Енио, в Аѳинах I 8, 4. 2) Кадма, в Ѳивах IX 12, 3.
Клеон, из Сикиона, ученик Антифана, славившийся ок. 93-103 ол. Его творений: 1) Афродита, в Олимпии V 17, 1; 2-3) два Зевса, в Олимпии V 21, 2; 4-8) атлеты, в Олимпии: Алкет VI 9, 1; Критодам VI 8, 3; Динолох VI 1, 2; Исмон VI 3, 4 и Ликин VI 10, 2.
Колот, ученик Пасителя. сотрудник Фидия при изготовлении статуи олимпийского Зевса. Кроме статуи Аѳины в Илиде, которую показывали П. за произведение Фидия, ему принадлежит еще: стол из золота и слоновой кости, в Олимпии V 20, 1.
Критий, островитянин (Нисиот), славившийся в Аѳинах между 70 и 80 ол. Его творения: 1) группа — Армодий и Ариетогитон, в Аѳинах, I 8, 5. 2) атлет Епихарин, там же I 23, 11.
Ксенокрит см. Еввий.
Ктесилай или Кресилай, из Кидонии, младший современник Фидия и Поликлита. Плиний приписывает ему (38, 53) знаменитую статую Перикла, о которой говорит П. при описании аѳинского акрополя I 25, 1.
Лафай, из Флиунта; его старая деревянная статуя Иракла в Сикионе II 10, 1; также Иракла, в Эгире VII 26, 3.
Леарх, или Клеарх, из Ригии, ученик Евхира, ок. 60 ол. Его работы — древнейшее произведение из меди — Зевс, в Спарте III 17, 6.
Леорх, из Аѳин, ок. 102 ол., современник Скопы. Его творения: 1) Зевс в аѳинском акрополе I 24, 3. 2) Зевс и Народ, в Пирее, I 1, 3. 3) Аполлон, в Аѳинах 13,4. 4) Филипп, Александр и Аминта в Олимпии V 20, 5.
Ликий, сын и ученик Мирона; главное творение его: большая группа из 13 лиц, в Олимпии V 22, 3. Его же — мальчик с чашей, в аѳинском акрополе I 23, 8.
Лисипп, из Сикиона, современник Александра Македонского, самоучка, образовавшийся изучением образцовых произведений предшественников, напр. «Дорифора» Поликлита, и подражанием природе. Таким образом он сделался превосходнейшим литейщиком древних времен и преимущественно приготовлял статуи — портреты. К ним принадлежит статуя Александра В., который хотел быть изображен только Лисиппом (Plut. Alex. 4). И статую Сократа аѳиняне поручили отлить Лисиппу, как и семь греческих мудрецов (Diog·. L. II 43). Его творения; 1) Зевс из меди, в Сикионе II 9, 6. 2) Зевс Немейский из меди, в Аргосе II 20, 3. 3-4) Зевс из меди, и Музы, в Мегарах I 43, 6. 5) группа — Аполлон и Ерм, из меди, на Еликоне IX 30, 1. 6) Ерот из меди, в Ѳеспиях IX 27, 3. 7) Иракл из меди, в Сикионе II 9, 7. 8-12) атлеты в Олимпии: Полидамас VI 5, 1 ; Троил VI 1,2; Хилон VI 4,4; Калликрат VI 17, 2; Ксенарх VI 2, 1 и две статуи Пифа VI 14, 5.
Мелас, или Малас, представитель семьи хиосских художников, сплавившейся 30-52 ол. и состоявшей из Меласа, сына Миккиада, внука Архерма и правнуков Вупала и Афенида.
Менехм и Соида из Навпакта, младшие современники Канаха и Каллона, изваяли статую Артемиды Лафрии из золота и слоновой кости, в Калидоне VII 18, 6.
1. Микон, из Аѳин, ваятель и живописец, современник и сотрудник Полигнота. Его атлет Каллия, в Олимпии VI 6, 1. Его же картины, которые он писал вместе с Полигнотом, в Пикиле и в храмах Фисея и Диоскуров. См. Полигнот.
2. Микон, из Сиракуз, изваял две статуи, из которых одна конная, Иерона ІІ, поставленная его сыновьями VI 12, 2.
Мирон, из Елевѳер, современник Поликлита сикионского, старший ученик Агелада, обнимавший все отрасли скульптуры, изготовлял статуи во всяком роде, начиная от колоссальных статуй богов до произведений в шутливом роде. Его творения: 1) деревянная статуя Гекаты, на о-ве Эгине II 30, 2. 2) Дионис, отнятый Суллою у орхоменян и поставленный на Еликоне IX 30, 1. 3) Персей, победитель Медузы, в Аѳинах I 23, 8. 4) Ерехѳей, в Аѳинах IX 30,1. 5) атлет Лада, в Спарте III 21, 1 (cp. II 19, 6). 6-7) две статуи атлета Ликина, в Олимпии VI 2, 1. 8) атлет Тиманф, в Олимпии VI 8, 3. 9) мальчик-атлет Филипп, в Олимпии VI 8, 3. 10) атлет Хионис, в Олимпии VI 13, 1.
Мис, славившийся небольшими выпуклыми работами из металла. Его работа на щите Аѳины в аѳинском акрополе I 26, 2.
Навкид, из Аргоса, сын Моѳона, знаменитейший из учеников Фидия. Его творения: 1) Геба, в Аргосе II 17, 5. 2) Геката, в Аргосе II 22, 8. 3-6) атлеты: две статуи Хинона, в Олимпии и в Аргосе VI 9, 1. Вавкид VI 8, 3 и Евкл VI 6, I.
Никий, из Аѳин, современник Александра В., один из величайших живописцев древности. П. (I. 29, 15) говорит, что он был лучшим живописцем животных. Его картины: 1) Иакинѳ, в Спарте III 19, 4; 2) женщина на троне, в Тритии VII 22, 6.
Омфалион, б. раб, ученик Никия. Его большая картина царей и героев в Мессине IV 31,12.
Онасий, современник Полигнота. Его картина в Платеях, в храме Аѳины Ареи: «Первый поход аргивян на Ѳивы» IX 4, 1.
Онат, из Эгины, сын Микона, представитель эгинской школы, особенно славившийся в 78 ол., ваятель богов, героев и исторических лиц. Его творения: 1) Димитра Мелена, из дерева, в Фигалии VIII 42, 3. 2) Аполлон, из меди, в Пергаме VIII 42, 4. 3) Ерм, в Олимпии, изв. совместно с Каллителем V 27, 5. 4) Иракл, в Олимпии V 25,7. 5) большая группа из 10 лиц, в Олимпии: греческие герои под Троей V 26, 5. 6) символическая группа тарентских героев в Делфах, изваянная совместно с Каливфом X 13, 10. 7) картина — семь против Ѳив, в Платеях IX 4, 1. [Ср. 5, 5].
Павсания, см. Самола.
Павсия, из Сикиона, ученик Памфила, современник Апеллеса. Его картины в Епидавре: Ерот и Пьянство II 27, 7.
Панен, племянник Фидия, вместе с Полигнотом и Миконом рисовал в Пикиле, а в 86 ол. раскрашивал трон Зевса в Олимпии и одежды на самой статуе V 11,2; 5-7.
Пантия, из Сикиона, ок. 100 ол., изваял атлетов в Олимпии: Аристея VI 9, 1 ; Никострата VI 3, 4, и Ксенодика VI 14, 5.
Паррасий, из Ефеса, принимал участие в сооружениях Перикла. По его рисункам, исполнены были рельефы на щите статуи Аѳины I 28, 2.
1. Патрокл, отец и учитель Дедала Сикионского, ок. 95 ол. участвовал в изваянии группы лакедемонских полководцев, в Дельфах X 9, 4.
2. Патрокл, сын Кратила, из Кротона, изваял деревянную статую Аполлона, в Олимпии VI 19. 8.
Пеоний, из Менды во Фракии, ученик Фидия; его статуи на переднем фронтоне храма Зевса, в Олимнии V, 20, 2, и «Ника», тоже в Олимпии VI 26, 1.
Писон, из Калаврии, ок. 93 ол., принимал участие в изваянии группы лакедемонских полководцев, в Делфах X 9,4.
Пиѳагор, из Ригии, ученик Клеарха, тоже из Ригии, славился уже в половине 70 ол. Из его творений П. упоминает только статуи атлетов в Олимпии: 1) Астила VI 13, 1, 2) Дромея VI 7, 3., 3) Евойна VI 7, 2; 4) Леонтиска VI4, 2; 5) Мнасея VI 13, 4, 6) Кратисѳена VI 18, 1. и 7) Протолая VI 6, 1.
Пифодор, изь Ѳив; его старое изваяние Геры, в Коронее IX 34, 3.
Полигнот, с о-ва Фасоса, сын и ученик Аглаофонта, от 75 до 87 ол. Его картины: 1) взятие Илиона, и 2) подземный мир, в Делфах, в Лесхе X 25-31. 3) сражение аѳинян при Иное, в Аѳинах I, 15, 1. 4) сражение аѳинян с амазонками, ibid. 5) взятие Трои и суд над Аяксом, ibid.
6) сражение при Мараѳоне, ibid. 7) свадьба Диоскуров и похищение дочерей Левкиппа, в храме Диоскуров, в Аѳинах I 18, 1. 8) события из троянской войны, в Аѳинах, в Пинакотеке I 22, 6. 9) события из жизни Фисея, в храме Фисея, в Аѳинах I 17, 2. 10) сцена из Одиссеи, в храме Аѳины Арен, в Платеях IX 4, 1.
1. Поликлит, из Сикиона, представитель аргивско-сикионской школы, величайший после Фидия художник древности. Его творения: 1 ) Гера, в Аргосе II 17,4, 2. 2-5) атлеты в Олимпии: Аристион VI 13, 4; Киниск VI 4, 6; Пифокл VI 7, 3; Ферсилох VI 13, 4; Ксенокл VI 9, 1 ; им же построен театр и одеон в Епидавре II 27, 5.
2. Поликлит младший, ученик Навкида, брата Поликлита старшего, ок. 93 ол. Его творения: 1) Зевс Филиос, в Мегалополе VIII 31, 2. 2) Зевс Милихий, в Аргосе II 20, 1. 3) Аполлон, Лито и Артемида, на горе Ликоне, около Аргоса II 24, 6. 4) Геката, в Аргосе II 22, 8. 5) треножник с изображением Афродиты, в Амиклах III 18, 5. 6 — 7) атлеты: Агинор VI 6, 1 и Антипатр, в Олимпии VI, 2, 4.
Поликл, из Аѳин, ок. 156 ол. изваял атлета Амикту VI 4, 5. Творения его сыновей (Тимокла и Тимархида): атлет Агасарх, в Олимпии VI 12, 8; Асклепий и Аѳина, в Елатии X 34, 4.
Пракситель, из Аѳин, ок. 104 ол. Его творения: 1) двенадцать богов, в Мегарах I 40,2. 2) Гера, Аѳина и Геба, в Мантинее VIII 9, 1. 3) Рея, в Платеях IX 2, 5. 4) Гера Телия, там-же, ib. 5) Димитра, Персефона и Иакх, в Аѳинах 12,4. 6) Аполлон, Артемида и Лито, в Мегарах I 44, 2. 7) группа: Лито, её дети, муза и Марсий, в Мантинее VIII 9, 1. 8) Лито, в Аргосе II 21, 10. 9) Артемида Враврония, в Аѳинах I 23, 9. 10) Артемида, в Антикире IX 37, 1. 11) Тиха, в Мегарах I 43,6. 12) Трофоний, в Левадии IX 39, 4. 13) Ерм с мальчиком Дионисом, в Олимпии V 17, 1. 14) Дионис, в Илиде VI 26, 1. 15) сатиры, в Аѳинах I 20, 1. 16) сатиры, в Мегарах I 43, 5. 17) Афродита, в Ѳеспиях IX 27, 8. 18) Пифо и Парагорос, в Мегарах I 43, 6. 19) Ерот, в Ѳеспиях, IX 7, 3 20) большая группа подвигов Иракла на фризах храма Иракла, в Ѳивах IX 11, 4. 21) Фрина, в Ѳеспиях IX 27, 4. 22) Фрина, в Дельфах X 14, 5. 23) воин и его конь, в Аѳинах I 2, 3.
Праксия и Андросѳен из Аѳин; их работы на фронтоне храма Аполлона, в Делфах X 19, 3.
Протоген, из Кавна, ж. в Аѳинах и в Родосе, во времена Димитрия Полиоркета. Его картина: Фесмотеты, в Аѳинах I 3,5.
Птелих, сын Синоона, из Эгины ок. 80 ол. изваял мальчика-атлета Ѳеогнита, в Олимпии VI. 9, 1.
Рик и Ѳеодор, из Самоса, ок. 50 ол, первые начали отливать статуи из меди. Им принадлежат: 1) здание Скиада, в Спарте III 12, 8. 2) медная статуя «Ночь», в Ефесе X 38, 3. 3) перстень Поликрата VIII 14, 5.
Самола, аркадянин, и Павсания, из Аполлонии, работали вместе с Антифаном аргивским над большим пожертвованием тегеян, в 94 ол. X 9, 3.
Серамв, эгинский художник, после 80 ол. Его мальчик-атлет Агиад, в Олимпии VI 10, 2.
Силанион, из Аѳин, ок. 13 ол. Его атлеты в Олимпии: Сатир VI 4, 3: Телеста II 14, 1; Дамарет VI 14, 5.
Синоон упоминается как отец Птолиха из Эгины VI 9, 1.
Сиадра и Харта, два лакедемонянина, упоминаются как учители коринѳянина Евхира VI 4, 4.
Симон, из Эгины, и Дионисий, из Аргоса, изваяли пожертвование в Олимпию Формиса, ок. 75-80 ол. V 27, 1.
Скиллид, см. Динин.
Скопа, из Пароса, из художников цветущего периода, в ол. 96,2 в Тегее восстановил храм Аѳины Алей, и украсил изваяниями VIII 45, 3; 47, 1; участвовал также в сооружении мавзолея VIII 16, 3. Его творения: 1) Артемида Евклия, в Ѳивах IX 17, 1. 2) Геката, в Аргосе II 22,7. 3) Ириннии, в Аѳинах I 28, 6. 4) Асклепий и Игиея, в Гортине VIII 28, 1. 5) тоже, в Тегее VIII 47, 1. 6) Аѳина, в Ѳивах IX 10, 2. 7) Афродита, в Илиде VI 35, 2. 8) Ерот, Имерос и Пофос в Мегарах I 43, 6. 9) Иракл, в Сикионе II 10 1. 10) он же строитель храма Аѳины Ален и Тегее VIII 45,1.
Смилис, сын Евклида, из Эгины, современник Дедала, но Плиний (36, 13, 19) относит его к началу летосчисления по олимпиадам, как современника Рика и Ѳеодора. Его творения: 1) Гера из дерева, в Самосе VII 4, 4. 2) Гера, в Аргосе II 17, 5. 3) Оры на тропе Геры, в Олимпии V 17, 1.
Соида, см. Менехм.
Сократ и Аристолид, ѳивяне, современники Пиндара, изваяли диндимскую Матерь, в Ѳивах IX, 25, 3.
Сократ, сын Софрониска, философ. Его группа харит, в Аѳинах I 22, 8; IX 35,1-2.
Сострат, из Хиоса, упоминается как учитель Пантии VI 9, 3.
Стронгилион, младший современник Кефисодота, последователь Мирона.
Его творения: 1) троянский вонь, в Аѳинах I 23, 10. 2) Артемида, в Мегарах I 40, 2. 3) группа: три Музы, на Еликоне IX 30, 1. По словам П. (I 40, 2), ему особенно удавались волы и лошади.
Сфенид,из Олинфа, современник и сотрудник Леохара. Его два мальчика — атлеты, в Олимпии VI 17, 3; 16, 7.
Тектей и Ангелион, ученики Динина и Скиллида, между 60-70 ол., изваяли Аполлона в Дилосе II 32, 5; IX 85, 3.
Телекл, упом. как отец древнего художника Ѳеодора VIII 14, 8; X 38, 6.
Телеста, см. Аристон.
Тимархид и Тимокл, см. Поликл.
Тисандр участвовал в изваянии группы лакедемонских полководцев X 9, 4.
Фидий, из Аѳин, род. ок. 70 ол. Его творения: а) из золота и слоновой кости: 1) Зевс на троне, в Олимпии V 12, 1 сл. 2) Аѳина Парѳенос, в Аѳинах 1 24, 5 сл. 3) Аѳина, в Пеллине VII 27 1. 4) Аѳина Арея, в Платеях IX 4, 1. 5) Аѳина, в Илиде VI 26, 2. б) Из меди: 6) Аѳина-Промахос, в Аѳинах I 28, 2. 7) Аѳина Лимнийская, там же I 28, 2. 8) Аполлон Парнопий, там же I 24, 8. 9) Ерм из мрамора, в Ѳивах IX 10, 2. 10) Афродита Урания, из золота и слоновой кости, в Илиде VI 25, 2. 11) Афродита Урания, из мрамора, в Аѳинах I 14, 6. 12) Мать богов, в Аѳинах I 3, 4. 13) группа из 13 бронзовых статуй, в Делфах X 10, 1. 14) статуя Пантарка, в Олимпии VI 10, 6. 15) золотые щиты, на храме, в Делфах X 19, 3. 16) сокровищница аѳинян, в Делфах X 11, 1. 17) Храм Евклии, в Аѳинах I 13, 4, 18) Храм Аѳины Ареи, в Платеях IX 4, 1.
Филотим, единственный известный нам эгинский художник позднейших времен, ок. 100 ол. Его — атлет Ксеномврот, в Олимпии VI 14, 12.
Фрадмон, из Аргоса, ок. 90 ол. Его атлет Амерта, в Олимпии VI 8, 1.
Хирисоф, из Крита, древнейший художник из дедалидов. Его Аполлон, в Тегее VIII 53,3.
Ѳеодор, см. Рик.
Ѳеокосм. из Мегар, начал большую статую Зевса, при чем, по словам II., пользовался помощью Фидия 140,4; его же полководец Ермон, в лакедемонской группе в Делфах X 9, 4.
Ѳеопрон, из Эгины; его медный бык, в Олимпии X 9, 3.
IV. Авторы, приводимые Павсаниею
Александр, из Плферона II 22, 7.
Алкей, ст-ние к Аполлону X 8, 10; гимн к Ерму VII 20,4.
Алкман III 15,2; III 26, 2; I 41, 4; III 18, 6.
Амфион, IX 5, 7; см. Миниада.
Анакреон I 2,3; I 25, 1.
Анаксимена стих-ния VI 18,5.
Анаксимен, историк VI 18, 2 — 3, 5.
Анахарсис I 22, 8.
Андротион, описание Аттики VI 7, 6; X 8, 1.
анонимные изречения VIII7,8; анонимные сочинения: «Перечень женщин» III 24, 10; (Исиод) стих-ние «к Европе» IX 5, 8.
Антагор, родосец I 2, 3.
Антимах IX 35, 5; его «Поход против Ѳив» VIII 25, 4; VIII 25, 9; VIII 25, 10.
Антиох. из Сиракуз: «Описание Сицилии» X 11,3.
Арат из Сол 12,3.
Аристарх, путеводитель по Олимпии V 20, 4.
Аристей, из Проконнеса I 24, 6; стих-ния V 7, 9.
Аристия, сатиры II 13, 6.
Аристотеля, из Стагиры, статуя VI 4, 8.
Аристофан, комедии V 5,3.
Архилох X 28, 3; X 31,12; ямбы VII 10,6.
Асий, поэт II 6,4; II 6, 5; II 29, 4. IV 2, 1;
Асий, самосец, с. Амфиптолема: стих-ния III 13, 8; V 17,8; VII 4, 1; VÏÏI 1, 4; IX 23, 6.
Вакид, пророк X 12,11.
Вакид, поэт, IV 27, 4; IX 17, 6; X 14, 6; X 32,8,9; X 321, 1.
Виз, наксосец V 10, 3.
Виас, из Приенны X 24,1
Вио, поэтесса; гимн делфийцам X 5, 7; X 5, 8.
Гекатей, из Милета III 25, 4; IV 2. 3; VIII 4, 9.
Геродот, из Галикарнасса, I 5, 1, I 33, 5, I 43,1; II 16, 1; II 20, 10; II 30, 4; IV35, 12; X 33, 12; X 20, 2; поход Ксеркса X 32, 9; в рассказе о Крезе III 2, 3; описание Лидии X 33, 7.
Герофан, из Тризина II 34, 4.
Герофила, сивилла X 12, 1; гимн к Аполлону X 12, 2: X 12 5.
Гитиад, поэт III 17, 2; III 18, 8.
Гомер: I 2, 3; I 12, 5; I 13,9; I 22,6; I 23,4; 128, 7; I 30, 4; I 37, 3; I 38, 2; II 4, 2; II 4, 2; II 6, 4; II 6, 1; II 12, 3; II 12 5; II 13, 2; II 14, 3; II 21, 10; II 22, 8; II 24, 4; II 25, 5; II 26, 10; II 30, 10; II 33, 3; II 36, 2; III 2,4; III 3,8; III 19,8; III 20, 6; III21, 5: III 21, 9; III 22, I; III 24,11; III 25,6; III 26, 7; 11126,8; IV 1,3,4; IV 3,2; IV 6, 3; IV 9, 2; IV 16, 8; IV 28, 7; IV 30,2; IV 3,1,1; IV 32,1; IV 33, 7; IV 36, 1; IV 36, 4; V 3, 4; V 8, 3; V 10, 8; V 14, 2; V 19.7; V 24, 5;V 24, 11; V 26, 2; VI 5, 8; VI 22, 6; VIII 3, 3; VIII 3, 7; VIII 4, 2; VIII 8, 5; VIII 16, 3; VIII 18, 23; VIII 22, 1; VIII 24,4; VIII 24, 14; VIII 25, 12; VIII 29, 2; VIII 32, 4; VIII 37, 5; VIII 37, 9; VIII 41,2; VIII 48, 3; VIII 50, 7; VIII 35, 5; IX 9, 5; IX 17, 3; IX 19, 7; IX 20, 2, 3; IX 22, 6; IX 24, 1; IX 26, 5; IX 29, 7; IX 30, 3; IX 30, 12; IX 35, 4; 1X38,7, 8; IX 40, 6; X 3, 2; X 4, 2; X 4, 5; X 5, 12; X 6, 5;X 7, 3; X 11, 3; X 17, 13; X 22, 7; X 24, 2; X 24, 3; X 25,1; X 25, 9; 26, 6; X 29, 10; X 30, 6; X 33 3; X 31, 12; X 32,18; X 337; X 36, 5. В Илиаде: II 3, 4; 111. 7, 7; III 18, I; IV 28, 7; IV 30, 5; IV 36, 4; V 6, 2; V 11, 7, VI 25, 3; VIII 25,8; VIII 32, 4; VIII 38, 10; VIII 41, 5; IX 18, 2; IX 19, 7; IX 36, 3; IX 40. 3; X 14, 2; X 25,2; X 26,7; X 29,10: X 37, 5. В Одиссее I 12, 5; II 16, 4; III 18, 16; IV 1, 4; III 29, 2; VIII 48, 6; IX 5, 7; IX 5, 10; IX 33, 2; IX 41, 3; X 4, 5; X 25, 1; X 25, 2; Х2.7; X 29, 10. Гимн к Димитре IV 30, 4; описание Ада I 17, 5. Гимн к Аполлону: X 37. 5. Илиада 1 158 (III 24, 11); 262 (X 29, 10) в т. д.
Илиада: I 158 (III 24, 11). 262 (X 29, 10). 314 (VIII 41, 2). II 50 (X 37, 5). 305 (IX 19, 7). 307 (IX 19, 7). 479 (IX 17, 3). 498 (IX 20, 3). 502 (IX 24, 1). 506 (IX 26, 5). 507 (IX 40, 6). 517 — 523 (X 3, 2) 519 (X 36, 5). 522 (X 33, 7). 561 (II 30, 10) 562 (II 36, 2). 571 (II 12, 5). 582 (IV 16, 8). 583 (III 21, 5). 591 (IV 1, 3). 594 (IV 33, 7). 603-614 (II 12, 3). 604 (VIII 19, 3). 605 (VIII 3, 3). 606 (VIII 25, 1 2). 608 (VIII 22, 1). 620 (V 3, 4). 661 (II 22, 8). 723 (VIII 8, 5). 755 (VIII 18, 2). 854 (III 20, 6). III, 122 (X 26, 7). 203 (X 2, 7). 445 (III 22, 1). IV 2 (II 13, 3). 193 (II 26, 10). V 265 (V 24, 5). 332 (IV 30, 5). 395 (VI 25, 3). 429 (VI 30, 5). 541 (IV 30, 2). 544 (VI 22, 6). 709 (IX 38, 7). 750 V 11, 7). VIII 362 (VIII 32, 4). 366 (VIII 18, 3). 368 (III 25, 6). IX 24 (II 6, 1). 122 (IV 32, 1). 150 (III 26, 8). 293 (IV 31, 1). 381 (IX 38, 8). 457 II 24, 4). XI 244 (IV 36, 4). 597 (IV 3,2). XII 202 (VIII 8, 5). XIII 170 (X 25, 9). 301 (IX 36, 3). 389 (V 3 4, 2). XIV 144 (IX 18, 2). 231 (III 18, 1). 267 (IX 35, 4). 278 (VIII 37, 5). 317 (V 10, 8). 490 (II 3,4). XV 36 (VIII 18, 2). 419 (X 14, 2). XVI 187 (VII 32, 4). 482 (V 14, 2). XVII 306 (X 4, 2). 312 (X 26, 6). XVIII 382 (IX 35, 14) 398 (VIII 41, 5). 569 (IX 29, 7). 590 (IX 40, 3). XIX 103 (VIII 32, 4). 117 (III 7, 7). 266 (V 24, 10). XX 131 (X 32, 18). XXI 194 (VIII 38, 10). 483 (IV 30, 5). XXIII (I 144 34, 3). 295 (V 8, 3). 346 (VIII 25, 8). 677 (I 28, 7). 790 (III 24, 11). XXIV (III, 19, 8). 527 (VIII 24, 14). 616 VIII 88, 10).
Одиссея: I 52 -54 (IX 20, 2). II 120 (II 3 6,4). III 276 — 285 (X 25, 2). 488 (IV 1, 4). IV 851 (III 18, 16). 561 (VIII 35, 5). V 272 (VIII 3, 7). VI 127 (I 22, 6) 162 (VIII 48, 3). VII 59 (VIII 29, 2). 205 (VIII 29, 2). X 120 (VIII 29, 2). 348 (V 19,7). 494 (IX 33, 2). 510 (X 30, 6). XI 122 (I 125). 260 (II 6, 4). 263 (IX 5, 7). 276 (IX 5, 10). 305 — 320 (IX 22, 6). 326 (VIII 48, 6). 327 (IX 41, 3). 577 (X 4, 5). 581 (X 4, 2). 582 (X 31, 12). 603 (II 13, 3). 630 (X 29, 10). 631 (III 24, 11). XII 46 (X 6, 5). XVIII 328 (X 25, 1). XIX 178 (III 2, 4). XX 302 (X 17, 13). XXI 15 (IV 1, 4). 18 (IV 1, 3). XXIV 1. 10. 99 (VIII 32, 4).
Гомер предпочитает древние названия местностей X 36, 3.
Горгий, из Леонтина VII 17, 7; 8, 9; X 19, 7.
Датис, мидянин, в словах X 28, 6.
Димодок III 18, 11.
Диоген, из Синопы, циник II 2, 4.
достопамятные деяния 112, 2; илейцев III 21,1; VI 4, 2; ѳивян IX 18, 3.
древности и достопримечательности II 9, 6; V 21, VIII 15,1; VIII 34, 1; IX 3, 4.
Еванорид, илеец V 18,1.
Евкл, пророк из Клара X 14, 6; X 24, 3; X 12, 11.
Евмантид, пророк IV 16, 1.
Евмил, поэт; описание Коринѳа II 2, 2; II 3, 10; II 1, 1; «к Аполлону» IV 4, 1; «к Дилосу» IV 33, 2; V 19, 10.
Евмолпия, поэма см. Мусей.
Евполис, комик II 7, 3.
Еврипид; I 2, 2; I 21,1.
Евфорион из Халкиды: II 22, 7; к Лаодике: X 26, 8.
Елланик , историк II 3,8; II 16, 7.
Епераст, илеец, стих. к нему: VI 17, 5.
Ермисианакт, из Колофона, VI 17, 4; элегии I 9, 7. VII 17,9; VII 18,1; VIII 12,1; IX 35, 5.
Ефиалт, оратор: І 29, 15.
Ивик, поэт: II 6, 5.
Игия, из Тризина: I 2, 1.
Илиада малая X 26, 2 см. Махаон.
Имерей, ода, X 26, 9.
Индия, маги, IV 32, 4.
Иперох, из Кум X 12, 8;
Иппий V 25, 4.
Иппократ, врач: X 2, 6.
Исиод: I 2, 3; I 24, 7. II 6, 5; II 9, 5; II 26, 7; V 26, 2; IX 30, 3; IX 31 3; подлинные сочинения IX 38, 3; X 7,3; поэма «к женщинам» I 3, 1; Ѳеогония I 28. 6; VIII18, 1; IX 27, 2; «Перечень женщин» I 43, 1.
Исократ I 18, 8.
Иэи великие (Исиода) II 16, 4; II 26, 2; IV 2, 1; VI 21, 10; IX 31, 5; IX 36, 7; IX 40, 5; X 31, 3.
Иероним, из Кардии I 9, 8; I 13, 9.
Ион, Хиосский, гимн V 14, 9; трагедия VII 14, 8.
Иофон, из Кносоа I 34, 4.
Калад, законодатель 18,4.
Кален IX 9, 5.
Каллип, коринѳянин; описание Орхомена IX 29, 2; IX, 39, 10.
Каллифон, из Самоса; картина X 26, 6.
Каркин, из Навпакта; поэма навпактская X 38, 11.
Кинеѳон, лакадн, автор родословий II 3, 9; IV 2,1; VIII 53, 5.
Кипрские стих-ния III 16, 1; IV 2, 7; X 26, 1; X 26, 4; X 31, 2.
Клеовул, из Линда X 24, 1.
Клеон , из Магнисии X 4, 6.
Клитодем, древнейший описатель Аттики X 15, 5.
Коринна, пророчица IX 20-1; 22, 3.
Креофил; поэма «Ираклия» IV 2, 3.
Крий, предсказатель III 13, 3.
Ксенокл I 37, 1.
Ксенофонт I 3, 4.
Ктесий, «Об индийцах » X 21, 4.
Лалия, Сивилла X 12, 1.
Левкей, поэт I 13, 8. См Ликей.
Лесвосский поэт (Сапфо) VIII 8, 5.
Лесхей, из Пирры; разрушение Илиона X 25, 5; X 25, 6, 9; X 26, 4; X 26, 8; X 27, 1.
Ликей II 19, 5; II 22, 2; II 23, 8
Ликийский поэт. См. Олин.
Ликург I 8, 2; III 2, 3; III 14, 8; III 16, 6; III 16,10; III 18, 2; VIII 51, 3.
Лик, предсказатель I 19.3; IV 1, 7; IV 1, 9; IV 2, 9; IV 20, 4; X 12, 11.
Лин, поэт X 19, 8; VIII 13, 1; IX 29, 6; IX 29, 8.
Лисий, пифагореец IX 13,1.
Махаон, «Малая Илиада» III 26, 10.
Меламп, с. Амифаона II 18, 4; о нем поэма IX 31, 5.
Меламп, из Кум V 7, 8. Мелеагр, автор Кипрской поэмы IV 2, 7.
Мимнерм, автор элегий IX 29, 4.
Миниада, поэма X 28, 2; X 28, 7; X 31, 3; IX 15, 9.
Миро, византийская поэтесса IX 5, 8.
Мирон, из Приины, автор истории Мессинии IV 6, 3; IV 6,4.
Мисон, хенеец I 35, 5; X 24, 1.
Мусей, поэт I 25, 8; I 14, 3; IV 1, 5; X 7, 2; X 12, 11; X 9, 11; поэма Евмолпия X 5,6.
Навпактская поэма II 3, 9; IV 2, I; X 38,10; см. Каркин,
надписи: Агамемнона щит V 19,4. Алкмены чертог IX 11,1 Аполлона и муз хор V 18. 4; Атлант небоносец V 18, 4; Афродита V 18, 5; Аякс V 19, 5; галаты, трофей I 13, 3; Гомера статуя X 24, 2; Дамарх атлет VI 8, 2; Елена и Эфра V 19, 3; Еверга дары V 10, 3; Епаминонд IX 15, 6; Ерм V 19, 5; Зевса статуя V 10, 2; V' 22, 3; V 25, 7; V 24, 8; Ѵ25, 10; золотой кубок, посвященный аф-ми V 10, 4; Ивота, атлета VII 17, 7; Иномая столб V 20 6; Иракл V 25, 11; Ирофила, сивилла X, 12, 5; Исиод IX 38, 4; Ифидамант и Коонт V 19,4; Кидия, аѳин. щит X 21, 5; Клеоты статуя VI 20, 14; Клеосѳен VI 10, 5; лань с цепью VIII,. 10, 10; Лаодики покров VIII 5, 3; Дика победы VI 13, 10; Лисандра статуя VI 3, 14; макед.. трофей I 13, 8; мендойцы V 27,. 12 ; Метаор IV 1,8 ; Мидии свадба V 18, 3; Марписса V 18, 2; неизвестная женщина V 18, 2; олимп. игры, подкупы V 21, 3:: Оната творения VIII 22, 10; оскорбление Кассандры V 19,5; Полидамант VII 27, 6; ІІифокрит VI 14, 10; победы щит V 10, 4 ; рог изобилия Милтиада VI 19,6; треножник Иракла X 7, 6; Тимон V 2, 5; Фидия творения V 10, 3; Фидолы VI 13, 10; Филона VI 99;Филопемен VIII, 52, 6; Фитала гробница I 37, 2; Хилон Патрейский VI 4, 6; Ѳеопомп VI, 10, 4.
Никий, из Никомидии III 19,4.
Носты, византийская поема X 29, 6; X 30, 5.
Олин, гимн к Гере II 13,3.
Олин ливийский, гимн к Илифии IX 27, 2, V 7, 8.
Олина предсказания X, 5, 8.
Ономакрит I 22, 7; IX 35, 5.
Орфей I 14 3; II, 30, 2; III 20: 5; V 26, 3; IX 17, 7; VI 20, 18; IX 27, 2; IX 30, 4; IX 30, 6; X 7, 2; X 30, 6; гимны I 37, 4; IX, 30, 12.
Памфос, поэт I 38, 3; I 39, 1; IX 27, 2; IX 35, 4; VI 21, 9; IX 29, 8; VIII 36, 8; IX 31,9
Паниасис, автор поэмы «Ираклия» X 8,9, IX11,2; X 29,9.
Перечень знам. женщин III 24, 10.
Периандр I 23,1; X 24,1. Персей II 8, 4.
Пиндар, I, 41, 5; IV 2, 7; IV 30, 6; VII 2, 7; IX 16,1; IX 17, 2; 1X22, 3; IX 23, 4; IX, 25, 3; IX 30, 2; X 5, 12; X 22, 9; X 24, 5; поэмы I 8, 4; III 25, 2; VI 2, 5; оды V 14, 6; VII 26, 8; X 16, 3; гимн к Аммону IX 16, V; к победителю V 10, 1; к Антиопе I 2, 1; к богине Афее II 30, 3; к Ѳиве и к Зевесу V 22 6; к Персефоне IX 23, 4.
Пиррон VI 24, 5.
Писандр II 37, 4; VIII 22, 4.
Писистрат, собиратель стих-ний Гомера VIII 26, 13.
Питтак, из Митилены X 24, 1.
Пиѳия, II 18, 2; II 26, 7; IV 12, 3; VI 11, 7; VIII 42, 5; X 13, 5.
Платон I 30, 3; IV 32, 4; VII 17, 3; X 24, 1.
Поливий VIII 9, 2 ; VIII 37, 2; VIII 44, 5; VIII 48, 8; VIII 30, 9;
Поликрат, аѳинский ритор VI 17, 9.
Полимнест, поэт I 14, 4.
Праксилла ІІІ 13, 5.
Пратина, сатирич. писатель II 13, 6.
Продик IV 33, 7.
Прокл, карфаг-н II 6; IV 35, 4.
Проном, поэт IV 27, 7.
прорицания: II 33, 2; III 6, 6; III 8, 9; IV 9, 4; IV 12, 1; IV 12, 4; IV 20, 1; IV 26, 4; IV 35, 5; V 2, 5; V 3, 5; V 7, 3; VI 9, 8; VII 5, 3; VII 25, 1; VIII 7, 6; VIII 9, 4; VIII 24, 14; IX 14, 3; IX 17, 5; IX 18, 5; IX 37, 4; X 1, 4; X 6, 7; X 18. 2; X 24, 2; X 37, 6. См. Пиѳия, Сивилла.
Риан IV 1, 6; IV 6, 3; IV 15, 2; IV 17, 11.
Родосские поэты II 12, 6.
Савва, Сивилла X 12, 9.
Сакада II 22, 8; VII 14. 9; X 7, 4, IV 27, 7; IX 30,2.
Сапфо I 25, 1; I 29, 2; IX 27, 2; IX 29, 8.
Сивилла II 7, 1; VII 8, 8; X 9, 11; X 12, 1.
Симонид III 8, 2; VI 9, 9; IX 2,5; X 27, 4.
Сократ I 22, 8.
Солон I 16, 1, I 18, 8; I 40, 5; X 24, 1; X 37, 6.
Софокл 121, 1; I 28, 7; I 37, 1.
Стесихор 1122, 7;III :9, 3; VIII 3, 1; IX 2, 3; IX 11, 2; X 26, 1; X 27, 2.
Телесилла, поэтесса II 20, 8; II 85, 2.
Тимофей, автор стих. «Персы» VIII 50, 3.
Тиртей IV 6, 5; IV 13,6; IV 14, 5; IV 15, 2, 6; IV 16, 6; IV 18, 3.
Тисий, оратор VI 7, 8.
Фаеннида, предсказательница X 12, 10; X 15, 3.
Феникс, поэт I 9, 7.
Филист І 13, 9; V 23, 6.
Филоксен, поэт I 2, 8.
Фимоноя, предсказ-ица X 5, 7; X 6, 7; X 12, 10.
Фриних, автор драмы «Шеврон» X 31, 4.
Халдейские мудрецы IV 32, 4.
Харон, сын Пифея X 38,1.
Херил, аѳинянин; драма «Алопа» I, 14, 3.
Херсий, из Орхомена, стихотворения IX 39, 9.
Хилон, спартанец X 24,1.
Хрисипп, из Сол I 17, 2; I 29, 15.
Эдинобия, поэма IX 5, 11.
эпиграммы, см. Надписи.
Эсхил I 2, 3; I 14, 5; I 28, 6; VIII 6, 6; II 24, 4; III 37, 6; IX 22, 7; «Семь против Ѳив» II .20, 5.
Эсхила сатиры I 21, 2; II 13, 6.
Ѳалес Милетский I 14, 4; X 24, 1.
Ѳамирис XX 30, 2; см. Миниада.
Ѳеодор, трагик I 37, 3.
Ѳеопомп III 10, 3; IV 18, 5.
Ѳеспротида, поэма VIII 2,5
Ѳиваида, поэма IX 9, 5; VIII 25, 8; IX 19, 2.
Ѳукидид I 23, 9; VI 19, 5.
V. Родословные